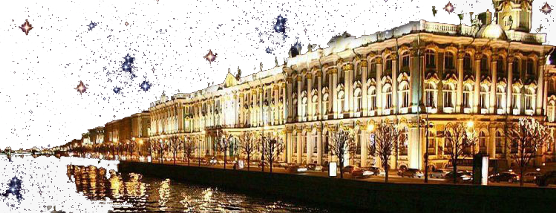Глава V
МЕЖДОЦАРСТВИЕ. Г. 1611-1612

Следствия сожжения Москвы. Поляки осаждены. Твердость Ермогена. Избрание главных Военачальников. Действия Сапеги. Приступ к Китаю-городу. Послы Московские отправлены в Литву. Взятие Смоленска. Шуйские в Варшаве. Умысел Заруцкого и Марины. Уставная грамота. Виды Ляпунова. Дела с Шведами. Новгород взят Генералом Делагарди. Договор Шведов с Новымгородом. Мятеж в войске Генерала Делагарди. Убиение Ляпунова. Последствия. Состояние России.
Весть о бедствии Москвы, распространив ужас, дала новую силу народному движению. Ревностные Иноки Лавры, едва услышав, что делается в столице, послали к ней всех ратных людей монастырских, написали умилительные грамоты к областным Воеводам и заклинали их угасить ее дымящийся пепел кровию изменников и Ляхов. Воеводы уже не медлили и шли вперед, на каждом шагу встречая толпы бегущих Москвитян, которые, с воплем о мести, примыкали к войску, поручая жен и детей своих великодушию народа. 25 Марта Ляхи увидели на Владимирской дороге легкий отряд Россиян, Козаков Атамана Просовецкого; напали - и возвратились, хвалясь победою. В следующий день пришел Ляпунов от Коломны, Заруцкий от Тулы; соединились с другими Воеводами близ обители Угрешской и 28 Марта двинулись к пепелищу Московскому. Неприятель, встретив их за Яузскими воротами, скоро отступил к Китаю и Кремлю, где Россияне, числом не менее ста тысяч, но без устройства и взаимной доверенности, осадили шесть или семь тысяч храбрецов иноземных, исполненных к ним презрения. Ляпунов стал на берегах Яузы, Князь Дмитрий Трубецкий с Атаманом Заруцким против Воронцовского поля, Ярославское и Костромское ополчение у ворот Покровских, Измайлов у Сретенских, Князь Литвинов-Мосальский у Тверских, внутри обоженных стен Белого города. Тут прибыл к войску Келарь Аврамий с Святою водою от Лавры, оживить сердца ревностию, укрепить мужеством. Тут, на завоеванных кучах пепла водрузив знамена, воины и Воеводы с торжественными обрядами дали клятву не чтить ни Владислава Царем, ни Бояр Московских Правителями, служить Церкви и Государству до избрания Государя нового, не крамольствовать ни делом, ни словом, - блюсти закон, тишину и братство, ненавидеть единственно врагов отечества, злодеев, изменников, и сражаться с ними усердно.
Битвы началися. Делая вылазки, осажденные дивились несметности Россиян и еще более умным распоряжениям их Вождей - то есть Ляпунова, который в битве 6 Апреля стяжал имя львообразного Стратига: его звучным голосом и примером одушевляемые Россияне кидались пешие на всадников, резались человек с человеком, и втеснив неприятеля в крепость, ночью заняли берег Москвы-реки и Неглинной. Ляхи тщетно хотели выгнать их оттуда; нападали конные и пешие, имели выгоды и невыгоды в ежедневных схватках, но видели уменьшение только своих: во многолюдстве осаждающих урон был незаметен. Россияне надеялись на время: Ляхи страшились времени скудные людьми и хлебом. Госевский желал прекратить бесполезные вылазки, но сражался иногда невольно, для спасения кормовщиков высылаемых им тайно, ночью, в окрестные деревни; сражался и для того, чтобы иметь пленников для размена. Известив Короля о сожжении Москвы и приступе Россиян к ее пепелищу, он требовал скорого вспоможения, ободрял товарищей, советовался с гнусным Салтыковым - и еще испытал силу души Ермогеновой. К старцу ветхому, изнуренному добровольным постом и тесным заключением, приходили наши изменники и сам Госевский с увещаниями и с угрозами: хотели, чтобы он велел Ляпунову и сподвижникам его удалиться. Ответ Ермогенов был тот же: "Пусть удалятся Ляхи!" Грозили ему злою смертию: старец указывал им на небо, говоря: "боюся Единого, там живущего!" Невидимый для добрых Россиян, великий иерарх сообщался с ними молитвою; слышал звук битв за свободу отечества, и тайно, из глубины сердца, пылающего неугасимым огнем добродетели, слал благословение верным подвижникам!
К несчастию, между сими подвижниками господствовало несогласие: Воеводы не слушались друг друга, и ратные действия без общей цели, единства и связи, не могли иметь и важного успеха. Решились торжественно избрать начальника; но, вместо одного, выбрали трех: верные Ляпунова, чиновные мятежники Тушинские Князя Дмитрия Трубецкого, грабители-козаки Атамана Заруцкого, чтобы таким зловещим выбором утвердить мнимый союз Россиян добрых с изменниками и разбойниками, коих находилось множество в войске. Трубецкий, сверх знатности, имел по крайней мере ум стратига и некоторые еще благородные свойства, усердствуя оказать себя достойным высокого сана: Заруцкий же, вместе с ним выслужив Боярство в Тушине, имел одну смелую предприимчивость для удовлетворения своим гнусным страстям, не зная ничего святого, ни Бога, ни отечества. Сии ратные Триумвиры сделались и государственными: ибо войско представляло Россию. Они писали указы в города, требуя запасов и денег еще более, нежели людей: города повиновались, многолетствовали в церквах благоверным Князьям и Боярам) а в своих донесениях били челом Синклиту Великого Российского Государства и давали, что могли. Казань, стыдясь своего заблуждения, снова присоединилась к отечеству, целовала крест быть в любви, в единодушии со всею землею и выслала дружины к Москве: области Низовые и Поморские также. Пришли и Смоленские уездные Дворяне и Дети Боярские, бежав от Сигизмунда. Ляхи гнались за ними и многих из них умертвили, как изменников: остальные тем ревностней желали участвовать в народном подвиге Россиян. Пришел и Сапега с своими шайками и занял Поклонную гору, объявляя себя другом России. Ему не верили; предложения его выслушали, но отвергнули. Атаман разбойников, осыпанный пеплом наших городов, утучненный нашею кровию, хотел, как пишут, венца Мономахова: вероятнее, что он хотел миллионов, предлагая свои услуги. Не обольстив Россиян, Сапега ударил на часть их стана против Лужников; отбитый, напал с другой стороны, близ Тверских ворот: не мог одолеть многолюдства, и, по совету Госевского, взяв от него 1500 Ляхов в сподвижники и Князя Григория Ромодановского в путеводители, удалился к Переславлю, чтобы грабить внутри России и тревожить осаждающих. Вслед за ним Ляпунов отрядил несколько легких дружин: Сапега разбил их в Александровской Слободе, осадил Переславль, жег, злодействовал, где хотел - и Россияне Московского стана, видя за собою дым пылающих селений, вдруг услышали, в Китае и Кремле, необыкновенный шум, громкие восклицания, звон колоколов, стрельбу из пушек и ружей: ждали вылазки, но узнали, что Ляхи только веселились и праздновали счастливую весть о скором прибытии к ним Гетмана с сильным войском - весть еще несправедливую, которая однако ж решила Ляпунова и товарищей его не медлить. Они изготовились в тишине, и за час до рассвета (22 Маия) приступив к Китаю-городу, взяли одну башню, где находилось 400 Ляхов. Место было важно: Россияне могли оттуда громить пушками внутренность Китая. Госевский избрал смелых и велел им, чего бы то ни стоило, вырвать сию башню из рук неприятеля: с обнаженными саблями, под картечею, Ляхи шли к ней узкою стеною, человек за человеком; кинулись на пушки, рубили, выгнали Россиян и мужественно отбили все их новые приступы. В других местах Ляпунов, везде первый, и Трубецкий имели более успеха: очистили весь Белый город, взяли укрепления на Козьем болоте, башни Никитскую, Алексеевскую, ворота Тресвятские, Чертольские, Арбатские, везде после жаркого кровопролития. Чрез пять дней сдался им и Девичий монастырь с двумя ротами Ляхов и пятьюстами Немцев. В то же время Россияне сделали укрепления за Москвою-рекою, стреляли из них в Кремль и препятствовали сношению осажденных с Сигизмундом, от коего Госевский, стесненный, изнуряемый, с малым числом людей и без хлеба, ждал избавления.
Но Король все еще думал только о Смоленске. Донесение Госевского о сожжении Москвы и наступательном действии многочисленного Российского войска, полученное Сигизмундом вместе с трофеями (или с частию разграбленной Ляхами утвари и казны Царской), не переменило его мыслей. Паны в новой беседе с Филаретом и Голицыным (8 Апреля), жалея о несчастии столицы, следствии ее мятежного духа, спрашивали их мнения о лучшем способе изгладить зло. С слезами ответствовал Митрополит: "Уже не знаем! Вы легко могли предупредить сие зло; исправить едва ли можете". Послы соглашались однако ж писать к Ермогену, Боярам и войску об унятии кровопролития, если Сигизмунд обяжется немедленно выступить из России: чего он никак не хотел, упорно требуя Смоленска, и в гневе велел им наконец готовиться к ссылке в Литву. "Ни ссылки, ни Литвы не боимся, - сказал умный Дьяк Луговской: - но делами насилия достигнете ли желаемого?" Угроза совершилась: вопреки всему священному для Государей и народов, взяли Послов... еще мало: ограбили их как в темном лесу или в вертепе разбойников; отдали воинам, повезли в ладиях к Киеву; бесчестили, срамили мужей, винимых только в добродетели, в ревности ко благу отечества и к исполнению государственных условий!.. Один из Ляхов еще стыдился за Короля, Республику и самого себя: Жолкевский. Сигизмунд предлагал ему главное начальство в Москве и в России. "Поздно!" - ответствовал Гетман и с негодованием удалился в свои маетности, мимо коих везли Филарета и Голицына: он прислал к ним, в знак уважения и ласки, спросить о здоровье. Знаменитые страдальцы написали к Жолкевскому: "Вспомни крестное целование: вспомни душу! В чем клялся ты Московскому Государству? и что делается? Есть Бог и вечное правосудие!"
Не страшась сего правосудия, Король в письмах к Боярам Московским хвалился своею милостию к России, благодарил за их верность и непричастие к бунту Ермогена и Ляпунова, обещал скорое усмирение всех мятежей, а Госевскому скорое избавление, дозволяя ему употреблять на жалованье войску не только сокровища Царские, но и все имение богатых Москвитян - и возобновил приступы к Смоленску, снова неудачные. Шеин, воины его и граждане оказывали более, нежели храбрость: истинное геройство, безбоязненность неизменную, хладнокровную, нечувствительность к ужасу и страданию, решительность терпеть до конца, умереть, а не сдаться. Уже двадцать месяцев продолжалась осада: запасы, силы, все истощилось, кроме великодушия; все сносили, безмолвно, не жалуясь, в тишине и повиновении, львы для врагов, агнцы для начальников. Осталась едва пятая доля защитников, не столько от ядер, пуль и сабель неприятельских, сколько от трудов и болезней; смертоносная цинга, произведенная недостатком в соли и в уксусе, довершила бедствие - но еще сражались! Еще Ляхи имели нужду в злодейской измене, чтобы овладеть городом: беглец Смоленский Андрей Дедишин указал им слабое место крепости: новую стену, деланную в осень наскоро и непрочно. Сию стену беспрестанною пальбою обрушили - и в полночь (3 Июня) Ляхи вломились в крепость, тут и в других местах, оставленных малочисленными Россиянами для защиты пролома. Бились долго в развалинах, на стенах, в улицах, при звуке всех колоколов и святом пении в церквах, где жены и старцы молились. Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлися многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения: Россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением - и славою! От страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели. На улицах и площадях лежали груды тел сожженных. Смоленск явился новым Сагунтом, и не Польша, но Россия могла торжествовать сей день, великий в ее летописях.
Еще один воин стоял на высокой башне с мечем окровавленным и противился Ляхам: доблий Шеин. Он хотел смерти; но пред ним плакали жена, юная дочь, сын малолетний: тронутый их слезами, Шеин объявил, что сдается Вождю Ляхов - и сдался Потоцкому. Верить ли Летописцу, что сего Героя оковали цепями в стане Королевском и пытали, доведываясь о казне Смоленской, будто бы им сокрытой? Король взял к себе его сына; жену и дочь отдал Льву Сапеге; самого Шеина послал в Литву узником. - Пленниками были еще Архиепископ Сергий, Воевода Князь Горчаков и 300 или 400 детей Боярских. Во время осады изгибло в городе, как уверяют, не менее семидесяти тысяч людей; она дорого стоила и Ляхам: едва третья доля Королевской рати осталась в живых, огнем лишенная добычи, а с нею и ревности к дальнейшим подвигам, так что слушая торжественное благодарение Сигизмундово, за ее великое дело, и новые щедрые обеты его, воины смеялись, столько раз манимые наградами и столько раз обманутые. Но Сигизмунд восхищался своим блестящим успехом; дал Потоцкому грамоту на староство Каменецкое, три дни угощал сподвижников, велел изобразить на медалях завоевание Смоленска и с гордостию известил о том Бояр Московских, которые ответствовали, что сетуя о гибели единокровных братьев, радуются его победе над непослушными и славят Бога!.. Торжество еще разительнейшее ожидало Сигизмунда, но уже не в России.
Историки Польские, строго осуждая его неблагоразумие в сем случае, пишут, что если бы он, взяв Смоленск, немедленно устремился к Москве, то войско осаждающих, видя с одной стороны наступление Короля, с другой смелого витязя Сапегу, а пред собою неодолимого Госевского, рассеялось бы в ужасе как стадо овец; что Король вошел бы победителем в Москву, с Думою Боярскою умирил бы Государство, или дав ему Владислава, или присоединив оное к Республике, и возвратился бы в Варшаву завоевателем не одного Смоленска, но целой державы Российской. Заключение едва ли справедливое: ибо тысяч пять усталых воинов, с Королем мало уважаемым Ляхами и ненавидимым Россиянами, не сделали бы, вероятно, более того, что сделал после новый его Военачальник, как увидим: не пременило бы судьбы, назначенной Провидением для России!
Сей Военачальник, Гетман Литовский, Ходкевич, знаменитый опытностию и мужеством, дотоле действовав с успехом против Шведов, был вызван из Ливонии, чтобы идти с войском к Москве, вместо Сигизмунда, который нетерпеливо желал успокоиться на Лаврах и немедленно уехал в Варшаву, где сенат и народ с веселием приветствовали в нем Героя. Но блестящее торжество для него и Республики совершилось в день достопамятный, когда Жолкевский явился в столице с своим державным пленником, несчастным Шуйским. Сие зрелище, данное тщеславием тщеславию, надмевало Ляхов от Монарха до последнего Шляхтича и было, как они думали, несомнительным знаком их уже решенного первенства над нами, концом долговременного борения между двумя великими народами Славянскими. Утром (19 Октября), при несметном стечении любопытных, Гетман ехал Краковским предместием ко дворцу с дружиною благородных всадников, с Вельможами Коронными и Литовскими, в шестидесяти каретах; за ними, в открытой богатой колеснице, на шести белых аргамаках, Василий, в парчовой одежде и в черной лисьей шапке, с двумя братьями, Князьями Шуйскими, и с капитаном гвардии; далее Шеин, Архиепископ Сергий и другие Смоленские пленники в особенных каретах. Король ждал их во дворце, сидя на троне, окруженный сенаторами и чиновниками, в глубокой тишине. Гетман ввел Царя-невольника и представил Сигизмунду. Лицо Василия изображало печаль, без стыда и робости: он держал шапку в руке и легким наклонением головы приветствовал Сигизмунда. Все взоры были устремлены на сверженного Монарха с живейшим любопытством и наслаждением: мысль о превратностях Рока и жалость к злосчастию не мешала восторгу Ляхов. Продолжалось молчание: Василий также внимательно смотрел на лица Вельмож Польских, как бы искал знакомых между ими, и нашел: отца Маринина, им спасенного от ужасной смерти, и в сию минуту счастливого его бедствием!.. Наконец Гетман прервал безмолвие высокопарною речью, не весьма искреннею и скромною: "дивился в ней разительным переменам в судьбе государств и счастию Сигизмунда; хвалил его мужество и твердость в обстоятельствах трудных; славил завоевание Смоленска и Москвы; указывал на Царя, преемника великих Самодержцев, еще недавно ужасных для Республики и всех Государей соседственных, даже Султана и почти целого мира; указывал и на Дмитрия Шуйского, предводителя ста осьмидесяти тысяч воинов храбрых, исчислял Царства, Княжения, области, народы и богатство, коими владели сии пленники, всего лишенные умом Сигизмундовым, взятые, повергаемые к ногам Королевским... Тут (пишут Ляхи) Василий, кланяясь Сигизмунду, опустил правую руку до земли и приложил себе к устам: Дмитрий Шуйский ударил челом в землю, а Князь Иван три раза, и заливаясь слезами. Гетман поручал их Сигизмундову великодушию; доказывал Историею, что и самые знаменитейшие Венценосцы не могут назваться счастливыми до конца своей жизни, и ходатайствовал за несчастных".
Великодушие Сигизмунда состояло в обуздании мстительных друзей Воеводы Сендомирского, которые пылали нетерпением сказать торжественно Василию, что "он не Царь, а злодей и недостоин милосердия, изменив Димитрию, упоив стогны Московские кровию благородных Ляхов, обесчестив Послов Королевских, венчанную Марину, ее Вельможного отца, и в бедствии, в неволе дерзая быть гордым, упрямым, как бы в посмеяние над судьбою": упрек достохвальный для Царя злополучного и несогласный с известием о мнимом уничижении его пред Королем! - Насытив глаза и сердце зрелищем лестным для народного самолюбия, послали Василия в Гостинский замок, близ Варшавы, где он чрез несколько месяцев (12 Сентября 1612) кончил жизнь бедственную, но не бесславную; где умерли и его братья, менее твердые в уничижении и в неволе. Чтобы увековечить свое торжество, Сигизмунд воздвигнул мраморный памятник над могилою Василия и Князя Дмитрия в Варшаве, в предместии Краковском, в новой часовне у церкви Креста Господня, с следующею надписью: "Во славу Царя Царей, одержав победу в Клушине, заняв Москву, возвратив Смоленск Республике, пленив Великого Князя Московского, Василия, с братом его, Князем Дмитрием, главным Воеводою Российским, Король Сигизмунд, по их смерти, велел здесь честно схоронить тела их, не забывая общей судьбы человеческой, и в доказательство, что во дни его Царствования не лишались погребения и враги, Венценосцы беззаконные!" - Во времена лучшие для России, в государствование Михаила, Польша должна была отдать ей кости Шуйских; во времена еще славнейшие, в государствование Петра Великого, отдала сему ревностному заступнику Августа II и другой памятник нашей незгоды: картину взятия Смоленска и Василиева позора в неволе, писанную искусным художником Долабеллою. Рукою могущества стерты знамения слабости!
Еще имея некоторый стыд, Король не явил Филарета, Голицына и Мезецкого в виде пленников в Варшаве: их, вместе с Шеиным, томили в неволе девять лет, славных особенно для Филаретовой добродетели: ибо не только Литовские единоверцы наши, но и Вельможи Польские, дивясь его твердости, разуму, великодушию, оказывали искреннее к нему уважение. Он дожил, к счастию, до свободы; дожил и знаменитый Шеин, к несчастию своему и к горести России!..
Между тем, невзирая на падение Смоленска, на торжество Сигизмундово и важные приготовления Гетмана Ходкевича, Воеводы Московского стана имели бы время и способ одолеть упорную защиту Госевского, если бы они действовали с единодушною ревностию; но с Ляпуновым и Трубецким сидел в совете, начальствовал в битвах, делил власть государственную и воинскую... злодей, коего умысел гнусный уже не был тайною. Атаман Заруцкий, сильный числом и дерзостию своих Козаков-разбойников, алчный, ненасытный в любостяжании, пользуясь смутными обстоятельствами, не только хватал все, что мог, целые города и волости себе в добычу - не только давал Козакам опустошать селения, жить грабежом, как бы в земле неприятельской, и плавал с ними в изобилии, когда другие воины едва не умирали с голоду в стане: но мыслил схватить и Царство! Марина была в руках его: тщетно писав из Калуги жалобные грамоты к Сапеге, чтобы он спас ее честь и жизнь от свирепых Россиян, сия бесстыдная кинулась в объятия Козака, с условием, чтобы Заруцкий возвел на престол Лжедимитриева сына-младенца и, в качестве правителя, властвовал с нею! Что нелепое и безумное могло казаться тогда несбыточным в России? Лицемерно пристав к Трубецкому и Ляпунову - взяв под надзор Марину, переведенную в Коломну - имея дружелюбные сношения и с Госевским, обманывая Россиян и Ляхов, Заруцкий умножал свои шайки прелестию добычи, искал единомышленников, в пользу лжецаревича Иоанна, между людьми чиновными, и находил, но еще не довольно для успеха вероятного. Ков огласился - и Ляпунов предприял, один, без слабого Трубецкого, если не вдруг обличить злодея в Атамане многолюдных шаек, то обуздать его беззакония, которые давали ему силу.
Ляпунов сделал, что все Дворяне, дети Боярские, люди служивые написали челобитную к Триумвирам о собрании Думы земской, требуя уставов для благоустройства и казни для преступников. К досаде Заруцкого и даже Трубецкого, сия Дума составилась из выборных войска, чтобы действовать именем отечества и чинов государственных, хотя и без знатного Духовенства, без мужей синклита. Она утвердила власть Триумвиров, но предписала им правила; уставила: "1) Взять поместья у людей сильных, которые завладели ими в мятежные времена без земского приговора, раздать скудным детям Боярским или употребить доходы оных на содержание войска; взять также все данное именем Владислава или Сигизмунда, сверх старых окладов, Боярам и Дворянам, оставшимся в Москве с Литвою; взять поместья у всех худых Россиян, не хотящих в годину чрезвычайных опасностей ехать на службу отечества или самовольно уезжающих из Московского стана; взять в казну все доходы питейные и таможенные, беззаконно присвоенные себе некоторыми Воеводами (вероятно Заруцким). 2) Снова учредить ведомство поместное, казенное и дворцовое для сборов хлебных и денежных. 3) Уравнять, землями и жалованьем, всех сановников без разбора, где кто служил, в Москве ли, в Тушине или в Калуге, смотря по их достоинству и чину. 4) Не касаться имения добрых Россиян, убитых или плененных Литвою, но отдать его их семействам или соблюсти до возвращения пленников; не касаться также имения церквей, монастырей и Патриаршего; не касаться ничего, данного Царем Василием в награду сподвижникам Князя Михаила Скопина-Шуйского и другим воинам за верную службу. 5) Назначить жалованье и доходы сановникам и Детям Боярским, коих поместья заняты или опустошены Литвою, и которые стоят ныне со всею землею против изменников и врагов. 6) Для посылок в города употреблять единственно Дворян раненых и неспособных к бою, а всем здоровым возвратиться к знаменам. 7) Кто ныне умрет за отечество или будет изувечен в битвах, тех имена да внесутся в Разрядные книги, вместе с неложным описанием всех дел знаменитых, на память векам. 8) Атаманам и Козакам строго запретить всякие разъезды и насилия; а для кормов посылать только Дворян добрых с детьми Боярскими. Кто же из людей воинских дерзнет грабить в селениях и на дорогах, тех казнить без милосердия: для чего восстановится старый Московский приказ, разбойный или земский. 9) Управлять войском и землею трем избранным Властителям, но не казнить никого смертию и не ссылать без торжественного земского приговора, без суда и вины законной; кто же убьет человека самовольно, того лишить жизни, как злодея. 10) А если избранные Властители не будут радеть вседушно о благе земли и следовать уставленным здесь правилам или Воеводы не будут слушаться их беспрекословно: то мы вольны всею землею переменить Властителей и Воевод, и выбрать иных, способных к бою и делу земскому".
Сию важную, уставную грамоту, ознаменованную духом умеренности, любви к общему государственному благу и снисхождения к несчастным обстоятельствам времени, подписали Триумвиры (Ляпунов вместо Заруцкого, вероятно безграмотного), три Дьяка, Окольничий Артемий Измайлов, Князь Иван Голицын, Вельяминов, Иван Шереметев и множество людей бесчиновных от имени двадцати пяти городов и войска. Дали и старались исполнить закон; восстановили хотя тень Правительства, бездушного в Самодержавии без Самодержца. Но Ляпунов уже занимался и главным делом: вопросом, где искать лучшего Царя для одушевления России? Уже переменив мысли, он думал, подобно Мстиславскому и другим, что сей лучший Царь должен быть иноземец державного племени, без связей наследственных и личных, родственников и клевретов, врагов и завистников между подданными. Недоставало времени обозреть все Державы Христианские, искать далеко, сноситься долго: ближайшее казалось и выгоднейшим, обещая нам, вместо вражды, мир и союз. Ляхи нас обманули: мы еще могли испытать Шведов, менее противных Российскому народу. Ненависть к Ляхам кипела во всех сердцах: ненависть к Шведам была только историческим воспоминанием Новогородским - и даже Новгород, как уверяют, мыслил в случае крайности поддаться скорее Шведам, нежели Сигизмунду. Что предлагал Делагарди сам собою, того уже ревностно хотел Карл IX: дать нам сына в Цари; уполномочил Вождя своего для всех важных договоров с Россиею и писал к ее чинам государственным, что Сигизмунд, будучи орудием Иезуитов или Папы, желает властвовать над нею единственно для искоренения Греческой Веры; что Король Испанский в заговоре с ними и намерен занять Архангельск или гавань Св. Николая; но что Россия в тесном союзе с Швециею может презирать и Ляхов и Папу и Короля Испанского. Россия видела Шведов в Клушине! Могла однако ж извинять их неверность неверностию своих, и помнила, что они с незабвенным Князем Михаилом освободили Москву. Ляпунов решился вступить в переговоры с Генералом Делагарди.
Желая утвердить вечную дружбу с нами, Шведы в сие время продолжали бессовестную войну свою в древних областях Новогородских и, тщетно хотев взять Орешек, взяли наконец Кексгольм, где из трех тысяч Россиян, истребленных битвами и цингою, оставалось только сто человек, вышедших свободно, с имением и знаменами: ибо неприятель еще страшился их отчаяния, сведав, что они готовы взорвать крепость и взлететь с нею на воздух! Дикие скалы Корельские прославились великодушием защитников, достойных сравнения с Героями Лавры и Смоленска! К сожалению, Новогородцы не имели такого духа и, хваляся ненавистию к одному врагу, к Ляхам, как бы беспечно видели завоевания другого: уже Делагарди стоял на берегах Волхова! Боярин Иван Салтыков, начальствуя в Новегороде, внутренно благоприятствовал, может быть, Сигизмунду: по крайней мере действовал усердно против Шведов; но его уже не было. Сведав, что он намерен идти с войском к Москве, Новогородцы встревожились; не верили сыну злодея и ревнителю Владиславова царствования, опасаясь в нем готового сподвижника Ляхов; призвали Салтыкова из Ладожского стана, удостоверили крестным обетом в личной безопасности - и посадили на кол, возбужденные к делу столь гнусному злым Дьяком Самсоновым! Издыхая в муках, злосчастный клялся в своей невинности; говорил: "не знаю отца, знаю только отечество, и буду везде резаться с Ляхами"... Жертва беззакония человеческого и правосудия Небесного: ибо сей юный, умный Боярин в день Клушинской битвы усерднее других изменников способствовал торжеству Ляхов и сраму Россиян!.. На место Салтыкова Ляпунов прислал Воеводу Бутурлина, а вслед за ним и Князя Троекурова, Думного Дворянина Собакина, Дьяка Васильева, чтобы немедленно условиться во всем с Генералом Делагарди, который с пятью тысячами воинов находился уже близ Хутынской обители. Переговоры началися в его стане. "Судьба России, - сказал ему Бутурлин, - не терпит Венценосца отечественного: два бедственные избрания доказали, что подданному нельзя быть у нас Царем благословенным". Ляпунов хотел мира, союза с Шведами и принца их, юного Филиппа, в Государи; а Делагарди прежде всего хотел денег и крепостей в залог нашей искренности: требовал Орешка, Ладоги, Ямы, Копорья, Иванягорода, Гдова. "Лучше умереть на своей земле, нежели искать спасения такими уступками", - ответствовали Российские сановники и заключили только перемирие, чтобы списаться с Ляпуновым. Наученный обманом Сигизмунда, сей Властитель не думал делиться Россиею с Шведами; соглашался однако ж впустить их в Невскую крепость и выдать им несколько тысяч рублей из казны Новогородской, если они поспешат к Москве, чтобы вместе с верными Россиянами очистить ее престол от тени Владиславовой - для Филиппа. Все зависело от Делагарди, как прежде от Сигизмунда, - и Делагарди сделал то же, что Сигизмунд: предпочел город Державе!.. Если бы он неукоснительно присоединился к нашему войску под столицею, чтобы усилить Ляпунова, разделить с ним славу успеха, истребить Госевского и Сапегу, отразить Ходкевича, восстановить Россию: то венец Мономахов, исторгнутый из рук Литовских, возвратился бы, вероятно, потомству Варяжскому, и брат Густава Адольфа или сам Адольф, в освобожденной Москве законно избранный, законно утвержденный на престоле Великою Думою земскою, включил бы Россию в систему Держав, которые, чрез несколько лет, Вестфальским миром основали равновесие Европы до времен новейших!
Но Делагарди, снискав личную приязнь Бутурлина, бывшего Гетманова пленника и ревностного ненавистника Ляхов, вздумал, по тайному совету сего легкомысленного Воеводы, как пишут - захватить древнюю столицу Рюрикову, чтобы возвратить ее Московскому Царю-Шведу или удержать как важное приобретение для Швеции. Срок перемирия минул, и Делагарди, жалуясь, что Новогородцы не дают ему денег, изъявляют расположение неприятельское, укрепляются, жгут деревянные здания близ вала, ставят пушки на стенах и башнях, приближился к Колмову монастырю, устроил войско для нападения, тайно высматривал места и дружелюбно угощал Послов Ляпунова. Бутурлин с ним не разлучался, празднуя в его стане. Другие Воеводы также беспечно пили в Новегороде; не берегли ни стен, ни башен; жители ссорились с людьми ратными; купцы возили товары к Шведам. Ночью с 15 на 16 Июля Делагарди, объявив своим чиновникам, что враждебный Новгород, великий именем, славный богатством, не страшный силами, должен быть их легкою добычею и важным залогом, с помощию одного слуги изменника, Ивана Швала, незапно вломился в западную часть города, в Чудинцовские ворота. Все спали: обыватели и стража. Шведы резали безоружных. Скоро раздался вопль из конца в конец, но не для битвы: кидались от ужаса в реку, спасались в крепость, бежали в поле и в леса; а Бутурлин Московскою дорогою с Детьми Боярскими и стрельцами, имев однако ж время выграбить лавки и домы знатнейших купцов. Сражалась только горсть людей под начальством Головы Стрелецкого, Василия Гаютина, Атамана Шарова, Дьяков Голенишева и Орлова; не хотела сдаться и легла на. месте. Еще один дом на Торговой стороне казался неодолимою твердынею: Шведы приступали и не могли взять его. Там мужествовал Протоиерей Софийского храма, Аммос, с своими друзьями, в глазах Митрополита Исидора, который на стенах крепости пел молебны и, видя такую доблесть, издали давал ему благословение крестом и рукою, сняв с него какую-то эпитимию церковную. Шведы сожгли наконец и дом и хозяина, последнего славного Новогородца в истории! Уже не находя сопротивления, они искали добычи; но пламя объяло вдруг несколько улиц, и Воевода Боярин Князь Никита Одоевский, будучи в крепости с Митрополитом, немногими Детьми Боярскими и народом малодушным, предложил Генералу Делагарди мирные условия. Заключили, 17 Июля, следующий договор, от имени Карла IX и Новагорода, с ведома Бояр и народа Московского, утверждая всякую статью крестным целованием за себя и потомство:
1) Быть вечному миру между обеими Державами, на основании Теузинского договора. Мы, Новогородцы, отвергнув Короля Сигизмунда и наследников его, Литву и Ляхов вероломных, признаем своим защитником и покровителем Короля Шведского с тем, чтобы России и Швеции вместе противиться сему врагу общему и не мириться одной без другой.
2) Да будет Царем и великим Князем Владимирским и Московским сын Короля Шведского, Густав Адольф или Филипп. Новгород целует ему крест в верности, и до его прибытия обязывается слушать Военачальника Иакова Делагарди во всем, что касается до чести упомянутого сына Королевского и до государственного, общего блага; вместе с ним, Иаковом, утвердить в верности к Королевичу все города своего Княжества, оборонять их и не жалеть для того самой жизни. Мы, Исидор Митрополит, Воевода Князь Одоевский и все иные сановники, клянемся ему, Иакову, быть искренними в совете и ревностными на деле; немедленно сообщать все, что узнаем из Москвы и других мест России; без его ведома не замышлять ничего важного, особенно вредного для Шведов, но предостерегать и хранить их во всех случаях; также объявить добросовестно все приходы казенные, наличные деньги и запасы, чтобы удовольствовать войско, снабдить крепости всем нужным для их безопасности и тем успешнее смирить непослушных Королевичу и Великому Новугороду.
3) Взаимно и мы, Иаков Де