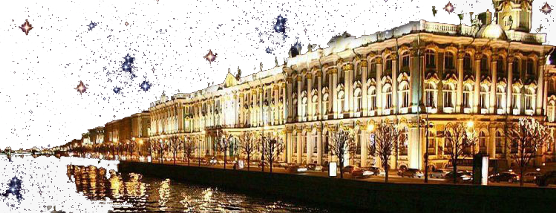ПОРТРЕТ АКТРИСЫ ЖАННЫ САМАРИ
Огюст Ренуар В декабре 1919 года в небольшом доме, расположенном на склоне горы Колетт, умирал французский художник Огюст Ренуар. Его скованное параличом и подагрой тело уже не способно было удерживать жизнь, жестокий ревматизм превратил его руки в нечто подобное крючьям или птичьим лапам. Но и в последнем проблеске сознания, в своих последних желаниях этот человек оставался верен себе. Он попросил карандаш, чтобы набросать вазу, потому что, всю жизнь создавая прекрасное, хотел создавать его и в свои последние минуты. Человечность искусства Огюста Ренуара осталась запечатленной в солнечных красках, в соблазнительном обаянии юных парижанок, в веселом многоцветий монмартрского карнавала, шумных пикниках и танцах, в жемчужной теплоте обнаженного женского тела. Создавая свой идеал женской красоты, О. Ренуар искал его черты не в утонченных дамах из аристократического общества, он предпочитал им горничных, модисток и кухарок. Для него современник (а точнее, современница) всегда были увлекательной сферой художественного впечатления, но в этих, казалось бы, мимолетных впечатлениях он увидел праздник быстротекущей жизни и сияющую радость ее счастливых мгновений. О. Ренуара причисляют к импрессионистам, но импрессионистический период начинается у него приблизительно с 1875 года, когда он писал сцены из жизни парижских предместий, ресторанов и общественных балов. И хотя художник в разработке света и красок решал те же задачи, что К. Моне и Э. Мане, он очень отличается от этих идеологов импрессионизма. О. Ренуар писал танцующих модисток и завтракающих лодочников вовсе не для того, чтобы «изображать современную жизнь», как декларировала литература того времени. О. Ренуар писал то, что ему было близко, не испытывая никакой склонности к историческим и мифологическим сюжетам. Он был современен без провозглашения какой-либо программы. Точно так же, как он делал тени голубыми, а кожу на солнце золотисто-розовой (находя, что именно таким путем можно верно передать впечатление), он привнес вкусовое начало, которое часто изменяло саму действительность, уничтожая то, что ему казалось неподходящим. Сам О. Ренуар никогда не причислял себя к импрессионистам и решительно отвергал основной принцип К. Моне о необходимости точной передачи натуры. Художник не писал действительность, какая она есть на самом деле, а черпал из нее только то, что было ему нужно. Сам он говорил: «У природы не научишься искусству. С природой каждый обращается как хочет и неизбежно приходит к самому себе. Я делаю то же». Поэтому силой волшебной кисти О. Ренуара грошовые платья девушек из предместья и грубые куртки клерков на его картинах превращались в поистине феерические костюмы. Ранним портретам О. Ренуара было присуще одно общее качество - художник не изолировал свою модель от окружающего мира. Напротив, через ощущение среды, ее гармонического равновесия и физической материальности художник видел человека, который для него является частицей солнечного восприятия мира. На Третьей выставке импрессионистов О. Ренуар показал 22 свои работы, среди которых был и его шедевр 1870-х годов — этюд к большому портрету французской актрисы Жанны Самари. С известной французской артисткой театра «Комеди Франсез» художник познакомился в 1876 году в доме писателя Альфонса Доде. О. Ренуар признавался, что едва ли видел актрису на сцене. Но он написал ее портрет, и вряд ли найдется в мировой живописи много портретов, где бы так естественно сочетались мысль и чувство, румянец жизни и обаяние человеческого разума. А этюд к портрету был создан в те счастливые минуты, когда вдохновленный моделью художник, не ограниченный необходимостью угождать вкусам заказчика, работал в полном согласии с собой. Он любил рисовать детей и женщин, в них острее чувствовал цветение красоты и молодости жизни. На картине Жанна Самари изображена в естественной позе, обращенной к зрителю, однако в ее внутреннем состоянии есть и некоторая отрешенность: женственно-прекрасная и обаятельная, она — здесь, перед нами, и в то же время словно чуть-чуть отдалена от нас. Самый сильный цветовой акцент в картине — розовый фон — определяет общее состояние всего портрета. Это скорее общая среда, из которой постепенно возникают очертания фигуры. Белый холст, просвечивая; через тонкий красочный слой, придает розовому цвету особую светоносность и подвижность. На розовом фоне горят золотистые волосы Жанны Самари, подвижные мазки кисти художника намечают ее плечи; уплотняясь, они отчетливо лепят форму руки с золотым браслетом, которой актриса слегка подпирает голову. И, наконец, последний акцент — четко прорисованные глаза и губы Жанны Самари. Они будто рождаются из розового цвета, который становится частью ее существа. Образ как бы рождается на глазах зрителя, переходит от общего состояния, определяемого розовой средой фона, к частному, конкретному — к красоте руки и женственности мягкого взгляда... В результате этого наше восприятие картины приобретает оттенок некой интимной непосредственности . Огюст Ренуар написал несколько эскизов к портрету этой актрисы, а сам портрет (в полный рост) создан в 1878 году. Он послал его на Салон 1879 года и сам потом восхищался чудом, что это произведение сохранилось. Посыльный, который должен был просто перенести эту картину, увидел, что она не покрыта лаком. Опост Ренуар не покрыл портрет лаком, потому что краски были еще совсем свежие, а посыльный подумал, что художник сделал это из экономии. Он решил облагодетельствовать художника и остатками лака от другой картины покрыл «Портрет Жанны Самари». В какие-то полдня О. Ренуару пришлось переписать всю вещь. В нем (так же, как и в этюдах) художник создал полный жизни и тепла, грациозный и обаятельный облик Жанны Самари. Уже с самых первых своих работ О. Ренуар отказался от рабской привязанности к рисунку, никогда не делал строго замкнутого контура, чтобы потом заполнить его краской. Он всегда рисовал только кистью, выделяя форму в процессе работы, как скульптор. Поэтому известный художественный критик Моклэр так писал о портрете Жанны Самари: «Там, где ученик Академии написал бы корректное платье, пригодное служить моделью для портнихи, Ренуар создает поэму из шелковистых мелочей, воспринятых чутким и пылким глазом художника и гармонирующих с самим образом привлекательной белокурой актрисы». Среди знаменитых художников мира встречаются имена, упоминание которых сразу вызывает душевную радость. «Есть художники, — пишет М. Лебедянский, — которых многие знают, их творчеству посвящены монографии, книги, научные статьи. А есть художники, которых просто любят. О них тоже пишут, но предпочитают издавать репродукции их произведений, чтобы без сложных комментариев и специальных пояснений читатели и зрители сами могли любоваться их работами». К числу таких художников принадлежит и «живописец радости» — Огюст Ренуар.
|
КНЯЗЬ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ СКОПИН-ШУЙСКИЙ Личность эта быстро промелькнула в нашей истории, но с блеском и славой, оставила по себе поэтические, печальные воспоминания. Характер этого человека, к большому сожалению, по скудости источников, остается недостаточно ясным: несомненно только то, что это был человек необыкновенных способностей. В старинных родовых обычаях нередко случалось, что кто-нибудь из членов рода получит прозвище, которое остается за его прямыми потомками, и таким способом образуется двойная фамилия, состоящая из этого прозвища и родового древнего наименования. Так, в потомстве суздальских князей, получивших наименование Шуйских, был князь, прозванный Скопа, давший начало ветви Шуйских, носивших названия Скопиных-Шуйских: эта ветвь окончилась правнуком Скопы Михаилом Васильевичем. Во время царствования названого Димитрия Михаил Васильевич имел не более двадцати лет от роду, но Димитрий отличил его и приблизил к себе. Он дал ему сан своего царского мечника и возложил на него важное поручение привезти в Москву царицу Марфу. В каких отношениях был Михаил к заговору Шуйского - мы вполне не знаем, хотя есть известие, что Димитрий, во время нападения заговорщиков, не нашел своего меча, который хранился у Михаила. Когда Болотников стоял под Москвою и 26 ноября собирался брать приступом столицу, царь Василий поверил Скопину охранение Серпуховских ворот. Михаил исполнил превосходно свое поручение и не только отбил мятежников, но 2 декабря ударил на Коломенское село и заставил Болотникова бежать от столицы. Несмотря на то, что князь Скопин заявил уже свои способности, Шуйский не дал ему главного начальства над войском против Тушинского вора, а поручил своему бездарному брату, Димитрию, который постыдно бежал и допустил самозванца до Москвы. Видно было, что подозрительный царь не доверял Михаилу Васильевичу и выдвинул его на дело только тогда, когда большая часть государства отпала от московского царя и сам Василий, со дня на день, дожидался гибели. В это время Скопин отправился в Новгород для заключения союза со шведами. Еще в феврале 1607 года шведы через корельского воеводу предлагали Василию свою помощь, но Василий, верный прадедовскому обычаю скрывать перед чужими свои затруднительные обстоятельства и представлять свое положение в самом лучшем виде, приказал выразить шведам негодование за такое предложение. Шведский король сделал вторично подобное же предложение, когда Василий стоял под Тулой. Василий отвечал, что он помощи ни от кого не требует и у него есть несчетные рати. Тогда только, когда самозванец уже угрожал столице, Василий должен был укротить свою гордость и ухватиться за средство, которое ему предлагали прежде. Он поручал это важное дело Скопину. Прибывши в Новгород, Скопин отправил в Швецию своего шурина, Семена Васильевича Головина, а сам оставался в Новгороде; но тут он увидел, что новгородцы волнуются и в большинстве готовы провозгласить Димитрия. Уже Псков и другие соседние города отпали от Шуйского. Войска у Скопина было немного. Он вышел из города, но кругом его все было враждебно; пограничные города Иван-город и Орешек были уже за Димитрия. Скопин хотел уйти в Швецию, как при устье Невы явились к нему новгородские старосты и просили воротиться в Новгород, обещая верность Василию. Такую перемену настроения в Новгороде произвели убеждения тамошнего митрополита Исидора. Но когда Скопин возвратился в Новгород, то услышал неожиданную весть, что из Тушина идет на Новгород полковник Кернозицкий с толпой поляков и русских воров. Новгородский воевода Михайло Игнатьевич Татищев вызвался идти против Кернозицкого. Татищева не любили в Новгороде; его недоброжелатели пришли к Скопину и сказали: "Татищев затем идет на Литву, чтобы изменить Василию и сдать Новгород". Скопин вместо того, чтобы защищать Татищева или разбирать справедливость доноса, собрал ратных новгородских людей и сказал: "Вот что мне говорят против Михаила Татищева, рассудите сами". Враги Татищева подняли крик и так вооружили всех, что толпа бросилась на него и растерзала. Скопин похоронил тело Татищева, а имущество велел продать с публичного торга, как поступали в старину в Новгороде после народного суда. Сам Скопин взял себе несколько вещей. Это дело остается темным как по отношению к личности Татищева, так и самого Скопина. Странным должно показаться, чтобы в самом деле мог покуситься пристать к самозванцу Татищев, один из главных виновников убийства названого Димитрия, фанатический приверженец русских обычаев; но тогда всех подозревали и редкий мог за себя поручиться. Кернозицкий подступил к Хутынскому монастырю; многие из служилых новгородских людей после смерти Татищева перебежали к неприятелю, а против Кернозицкого вышли собравшиеся крестьяне; некоторые из них попались в плен и под пытками наговорили, что в Новгород идет большое войско. Кернозицкий испугался и отступил в Старую Русу. Между тем Головин заключил договор, по которому Швеция обязывалась доставить Московскому государству на первый раз пять тысяч войска, за плату 32 000 рублей, да кроме того, Московское государство должно было дать Швеции 5000 рублей не в зачет. Сверх того, шведы обещали прибавить еще вспомогательного войска безденежно, с условием, чтобы и московский государь отпускал безденежно свое войско в Швецию в случае нужды. За это Московское государство уступало Швеции Корелу со всем ее уездом. По силе этого договора, весной 1609 года, прибыло в Новгород 5000 шведов, а за ними должно было прийти еще 10000 разноплеменных охочих людей, но число пришедших, на самом деле, оказалось не полным. Шведским войском начальствовал Яков Понтус Делагарди, сын французского выходца реформата. Скопин встретил его в Новгороде 30 марта с пушечными и оружейными выстрелами. Оба предводителя были молоды: Делагарди было 27 лет, Скопину всего 23 года. Народ любовался ими. Иноземцы, описывая русского вождя, говорят, что он, при своей молодости, был необыкновенно красив, статен, приветлив и привлекал всех своим умом и той силой души, которая выказывалась во всех его приемах. По московскому обычаю, Скопин, благодаря шведского короля за помощь, старался, однако, скрыть перед Делагарди крайнее положение отечества. "Наш великий государь, - говорил он, - находится в благополучии и все подданные ему прямят; есть каких-нибудь тысяч восемь русских бездельников, которые пристали к полякам и казакам". Скопин выдал шведскому предводителю деньги, следуемые шведами не в зачет, а из суммы, назначенной на жалованье войску, мог дать только три тысячи, да и то собольими мехами; звонкой монеты не хватило. Он успокаивал союзников обещаниями; между тем рассылал грамоты в северо-восточные города, менее других разоренные, умолял скорее собирать и присылать деньги и вместе с тем приглашал отправлять к нему ратных людей. План его был таков, чтобы идти прямо к Москве, не останавливаясь под городами, потому что все города, по его расчету, должны будут изъявить покорность, когда Москва освободится. Первое дело соединенного русско-шведского войска было под селом Каменкой, 5 мая. Кернозицкий был разбит наголову отрядом, которым начальствовал Горн и Чулков. Победители взяли у него пушки, порох, лошадей; набрали множество пленников и в том числе толпу женщин. Скопин, после этой победы, отправил отряды по соседним городам. Весть о победе над Кернозицким произвела такое впечатление, что города: Торопец, Невель, Холм, Великие Луки, Ржева, отступили от самозванца. Порхов избавился от осаждавших его воров. Псков держался Димитрия, потому что в этом городе захватили власть черные люди, вопреки желанию лучших людей, расположенных отступиться от вора. Затем Торжок, а за ним другие соседние города прислали к Скопину повинную и признали царя Василия. Скопин и Делагарди выступили из Новгорода и шли отдельно; к досаде Скопина, Делагарди шел медленнее, чем хотелось русскому вождю. Быть может, шведский предводитель рассчитывал, что русские не в состоянии будут уплатить жалованья, которого сумма возвысится от долгого времени службы шведов в Московском государстве, и тогда будет предлог захватить северные области, как сделалось впоследствии. Вор отправил против них Зборовского с поляками и князя Шаховского с русскими людьми. Воровское войско истребило город Старицу, не взяло Торжка, отступило и заперлось в Твери. Скопин и Делагарди, соединившись, напали на Тверь; сначала они были отбиты, но потом, 13 июля, возобновили нападение, выгнали неприятеля из Твери, погнались за ним и разбили наголову. Скопин, после этой победы, торопился идти к Москве, но иноземное войско взбунтовалось, требовало уплаты жалованья и не хотело идти далее. Делагарди должен был уступить, сам остался под Тверью и, со своей стороны, стал требовать уплаты жалованья и отдачи Корелы по условию. Заплатить было нечем. Делагарди воротился к Торжку, и его наемные воины стали обращаться с русскими поселянами не лучше поляков. В этом затруднительном положении Скопин не упал духом. Он пригласил, по особому договору, отряд шведского войска под начальством Христиерна Зоме и стал под Колязиным. Отсюда он беспрестанно рассылал гонцов по городам и просил присылки денег и ратных людей. Монастыри: Соловецкий, Печенский, Устюжский, Спасо-Прилуцкий снабдили его деньгами. Пермская земля приводила его в досаду своей медлительностью; зато усердными показали себя вологжане и сольвычегодцы, особенно Строгановы, которые, кроме присылки денег, снаряжали и отправляли на свой счет к Скопину много ратных людей. Прибывавшие в Колязин ратные люди были хорошо вооружены, но не знали военного дела, и Христиерн Зоме занимался их обучением. В половине августа тушинцы, осаждавшие Троицу под начальством Сапеги и Зборовского, пошли на Скопина, но Скопин предупредил их и на реке Жабне, впадающей в Волгу, поразил и обратил в бегство. Получивши деньги, Скопин выплатил еще часть жалованья шведскому войску, отправил, от имени царя, Федора Чулкова сдать шведам Корелу и тем побудил Делагарди прибыть к нему с войском 26 сентября. Союзники очистили от воров Переяславль и в октябре взяли Александровскую слободу. Тогда не только Сапега и Зборовский, но и сам главный военачальник Тушинского вора Рожинский двинулся на Скопина; после кровопролитного боя под Александровской слободой они воротились назад с большой потерей. Скопин и Делагарди составили план строить засеки одну за другой и таким способом приближаться к Москве. Сам Скопин порывался к столице, но Делагарди удерживал его, представляя, что не следует оставлять в тылу неприятеля, а нужно очистить соседнюю страну от воров. Таким образом, Скопин простоял всю зиму в Александровской слободе. Слава его распространилась повсюду. Царя Василия не терпели, и русские стали поговаривать, что следует его низложить, а царем сделать Михаила Васильевича. Прокопий Ляпунов прислал к Скопину посольство от всей рязанской земли и извещал, что вся русская земля хочет его избрать в цари и признает, что кроме Михаила Васильевича никто не достоин сидеть на престоле. Скопин не вошел по этому поводу ни в какие объяснения, удалил от себя посольство, но никого не казнил, не разбирал дела и не известил об этом царя Василия. Между тем тушинский лагерь разошелся. Москва освободилась от осады. Отовсюду повезли припасы к столице. Скопин с Делагарди отправились в Москву и въехали в нее 12 марта 1610 года. Толпа московского народа обоего пола встречала его за городом. Бояре подносили ему хлеб-соль. Скопин ехал верхом рядом с Делагарди. Народ падал перед ним ниц, называл освободителем и спасителем земли. Сам царь Василий всенародно со слезами обнимал и целовал его. Начались пиры за пирами. Москвичи, наперерыв один за другим, приглашали шведов в свои дома и угощали их. Скопин хотел отдохнуть в Москве до просухи, а потом идти на Сигизмунда. Но Василий уже ненавидел Михаила Васильевича. Торжественная встреча, беспрестанные знаки народного расположения, сопровождавшие каждое появление Скопина среди народа, внушали ему страх. Русские люди открыто говорили, что надобно низложить Василия и избрать царем Скопина. Василий решился прямо объясниться с последним и изъявить ему свои опасения. Князь Михаил Васильевич уверял, что не помышляет о короне, но Василия этим нельзя было уверить: Василий сам помнил, как он, в былые времена, клялся в своей верности Борису и Димитрию. К большему страху Василия, какие-то гадатели напророчили ему, что после него сядет на престол царь Михаил; и Василий воображал, что этот Михаил есть Скопин. Но всего более ненавидел Скопина неспособный брат царя, Димитрий Шуйский. Зависть точила его. В то время, когда все московские люди расточали восторженные похвалы князю Михаилу Васильевичу, Димитрий Шуйский подал на него царю обвинение, что он самовольно отдал шведам Корелу с областью. Царь Василий умел лучше сдерживать себя, чем брат, и не только оправдал Скопина, но замахнулся палкой на брата. Тем не менее везде говорили, что царь готовит Михаилу Васильевичу тайную гибель; и сам Делагарди советовал ему поскорее выбраться из Москвы, в поле, чтобы избежать худа. 23 апреля князь Иван Воротынский, свояк царя Василия, пригласил Скопина крестить своего младенца. На пиру Михаилу Васильевичу сделалось дурно. Его отвезли домой. Делагарди прислал к нему медика: ничто не помогло. Михаил Васильевич скончался на руках своей матери и жены . Когда тело его лежало готовое к погребению, приехал Делагарди; москвичи не хотели было допустить к мертвецу неправославного, но Делагарди сказал, что покойный был его друг и товарищ, и был пропущен. Он взглянул на мертвого, прослезился и сказал: "Московские люди, не только в вашей Руси, но и в землях государя моего не видать уже мне такого человека!" Всеобщая молва приписывала смерть Скопина отраве, которую будто бы поднесла ему на пиру "в чаше на перепивании" жена Димитрия Шуйского, Екатерина, дочь Малюты Скуратова, "кума крестная, змея подколодная", как выражается народная песня. Народ до того взволновался, что чуть не разорил двора Димитрия Шуйского. Царь Василий военной силой охранил его от ярости толпы. Современные иностранцы положительно утверждают, что Скопин был отравлен по приказанию царя Василия Гроб Михаила Васильевича несли товарищи его подвигов. За ними следовали вдовы, сестры и матери убитых в бою. Они поддерживали мать и вдову Скопина, которые почти лишились памяти и чувства от горя. Был тут и царь Василий, разливался в слезах и вопил. Ему не верили. Не удалось Скопину сесть на московском престоле, на котором его так хотел видеть народ русский. Зато гроб его опустили в землю в Архангельском соборе, посреди царей и великих князей московского государства.
|
ДЕМОН
Михаил Врубель  Какое горькое томленье... Жить для себя, скучать собой! Выше уже говорилось, что «Демон сидящий» — это миф, созданный еще молодым М. Врубелем о самом себе, фантастический и вместе с тем подлинно вещий, как и все мифы. Лик Демона печален, но это печаль юности, он еще далек от отчаяния и полон гордой веры в мощь своих крыльев. Как ни велико значение «Демона сидящего» для самого М. Врубеля — это для него лишь преддверие, предчувствие Демона настоящего. Вслед за ним последовали картины «Демон летящий», которая осталась незавершенной, и «Демон поверженный». «Демон поверженный» — потерпевший крушение, но не сломленный и не убитый. Разбитое тело, жалкая и страшная гримаса потемневшего лица — вот финал героической схватки с Богом на фоне рассыпанных по скалам сказочных павлиньих перьев. В каждом изгибе сломанного тела, в каждой складке величественных и неприступных гор слышатся отзвуки только что отзвучавшей битвы. И вместе с тем есть что-то бесконечно гордое, непримиримое и дерзкое в фанатично горящих глазах Демона, какое-то мрачное упоение стихией борьбы. М. Врубеля так захватила эта тема, как будто не Демон, а он сам участвовал в схватке с Богом. Художник работал по 24 часа в сутки, забыв обо всем на свете: жена, друзья, сын Савочка, весь привычный мир отодвинулись куда-то далеко, остались только он, Демон и упоение изнурительной, беспощадной борьбы. Десятки раз художник что-то переделывал, менял, дописывал, и все равно ему казалось, что Демон выходит не таким, каким он видит его в своем воображении. В нетерпении художник залеплял куски непросохшей еще краски газетной бумагой и писал прямо по ней. Даже когда «Демона поверженного» поместили уже в зале выставки «Мира искусств», М. Врубель не успокоился: приходил к своему Демону и все время что-то изменял в его лице, делая его то скорбным, то злым, то страшным и все равно для художника бесконечно прекрасным. Александр Бенуа, наблюдавший за этой лихорадочной работой над «Демоном поверженным», писал потом: «Верится, что Князь Мира позировал ему. Есть что-то глубоко правдивое в этих ужасных и прекрасных, до слез волнующих картинах. Его Демон остался верен своей натуре. Он, полюбивший Врубеля, все же и обманул его. Эти сеансы были сплошным издевательством и дразнением. Врубель видел то одну, то другую сторону своего божества, то сразу ту и другую, и в погоне за этим неуловимым он быстро стал продвигаться к пропасти, к которой его толкало увлечение проклятым».
|