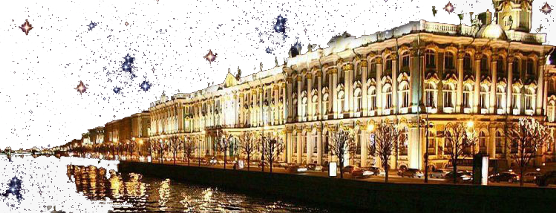БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ
Илья Репин Почти каждая картина Ильи Ефимовича Репина имеет свою увлекательную историю, потому что редко какая из них писалась за один год. Обычно между замыслом и окончательным его воплощением проходило три-четыре года, а иногда и больше. Смысл происходящего в картине выражался в определенной сцене, и потому общая композиция полотна ясно вырисовывалась уже в первых эскизах, а затем только уточнялась или незначительно изменялась. Так было и с «Бурлаками на Волге» — картиной, которую И. Е. Репин создал в 29 лет, будучи еще учеником Академии художеств. В то время он работал над академическими сюжетами — «Иов и его друзья» и «Воскрешение дочери Иаира», а к замыслу «Бурлаков» его привело, казалось бы, случайное событие. В 1868 году И. Репин со своим товарищем по учебе К. Савицким отправился на этюды на Усть-Ижору. Как-то раз они увидели рядом с празднично разодетыми дамами и мужчинами, гуляющими по берегу, оборванную и почерневшую от солнца ватагу бурлаков, тянущих тяжелую барку. «О Боже, зачем они такие грязные, оборванные, — воскликнул художник. — У одного разорванная штанина по земле волочится и голое колено сверкает, у другого локти повылезли, некоторые без шапок; а рубахи-то, рубахи. Истлевшие — не узнать розового ситца, висящего на них полосами, и не разобрать даже ни цвета, ни материи, из которой они сделаны. Вот лохмотья, влегшие в лямку груди, обтерлись докрасна, оголились и побурели от загара. Лица угрюмые, иногда только сверкнет тяжелый взгляд из-под пряди сбившихся висящих волос, лица потные блестят, и рубахи насквозь потемнели. Вот контраст с этим чистым, ароматным цветником господ». Эта сцена так поразила И. Репина, что с того момента художник надолго увлекся темой «Бурлаков». То он набрасывал эскиз, где на берег поднимается вереница одних только бурлаков, то писал эскиз (до нас не дошедший, но виденный художником Ф. Васильевым), в котором целиком предстает виденная им картина. Казалось бы, в теме, избранной И. Репиным случайно, не может быть ничего поэтического. Некоторые друзья художника утверждали, что бурлаки, впряженные в лямку, могут вызвать у зрителя только жалость и сочувствие, не более... Но художник сумел выразить в своей картине захватывающие зрителя глубокие чувства и мысли. Чтобы картина была правдивой, в 1870 году И.Е. Репин поехал на Волгу, где мог ближе наблюдать жизнь народа, познакомиться с его трудом и бытом, увидеть красоту того русского характера, который потом и получил свое выражение в картине. Он хотел не просто посмотреть на бурлаков и порисовать их, но и пожить среди них, поближе узнать. После поездки на Волгу И.Е. Репин отказался от прямолинейного и навязчивого обличительства, в котором могла проявиться рассудочная дидактика и сухая надуманность. Внимание его приковали прежде всего люди с трудной судьбой, во всем многообразии и богатстве своих характеров. Им посвятил он свою картину, их заставил говорить на своем полотне. На Волге «видел я и смешанные коллективные усилия людей и скотов обоего пола, тянувших все те же невероятные по своей длине бечевы; группы этих бурлаков рисовались силуэтами над высокими обрывами и составляли весьма унылый прибавок к весьма унылому пейзажу». ...Темное, предгрозовое небо, затянутое тяжелыми и хмурыми облаками... В разрыве между ними проглядывает клочок ясного неба и льются ослепительно яркие лучи заходящего солнца. Они прокладывают светлую, искрящуюся дорогу по холодной свинцовой поверхности притихшей реки. На фоне этого светлого пятна, но погруженные во мрак нависающей над ними тучи выделяются темные силуэты людей — медленно, с огромным усилием взбирающихся на крутой склон холма. Они с трудом отрывают от земли ноги, вязнущие в сыром, зыбком песке, и с каждым шагом все больше и больше выбиваются из сил. Такими изобразил И. Репин бурлаков в своем первом волжском эскизе, бегло, но очень эмоционально воссоздав в нем взволновавшую его картину. Этот карандашный эскиз и стал отправной точкой, с которой начались дальнейшие поиски художника. И.Е. Репин не остановился на первом эскизе, хотя впоследствии часто обращался к нему и творчески его перерабатывал. В конце июня 1870 года он поселился в Ширяеве, где и провел все лето. Здесь он встретил одного из любимейших своих героев — Канина, здесь же написал много эскизов к своим «Бурлакам» и сделал много зарисовок. В Ширяеве художник окунулся в самую гущу бурлацкого быта. Теперь уже не мимолетные впечатления, а тесное общение с бурлацкой ватагой обогатило запас жизненных наблюдений И. Репина. Каплю за каплей, черточку за черточкой выискивал, собирал, копил художник, чтобы потом сложился его замечательный Канин — «вершина бурлацкой эпопеи», как называл его сам И. Репин. «Что-то в нем было восточное, древнее, ~ говорил художник. — А вот глаза, глаза! Какая глубина взгляда, приподнятого к бровям, тоже стремящимся на лоб... А лоб — большой, умный, интеллигентный лоб; это не простак». Канин — расстриженный священник, человек необычной судьбы — олицетворял на картине и в жизни лучшие черты народного характера: мудрость, философский склад ума, упорство и силушку могучую. Весь облик Канина, вплоть до тряпицы на голове и до закурчавившихся у шеи волос, вызывал у И. Репина восторг. «Типичнее этого настоящего бурлака ничего уже не может быть для моего сюжета», — писал он в автобиографической книге «Далекое — близкое». Вот Канин идет во главе бурлацкой артели рядом с громадным великаном и чернобородым «борцом» Илькой-моряком. Есть среди бурлаков и еще один образ — деревенский паренек Ларька, который многое подчеркивает в духовной сути Канина. Да у них и действительно есть много общего: это прежде всего пытливый, проницательный ум, непокорность, душевная гордость и достоинство. Индивидуальные черты у них раскрываются как бы в противопоставлении: молодость, детская чистота, хрупкость Ларьки, его нетерпеливая юношеская порывистость, идущая от неопытности нетерпимость — и мужественность Канина, его накопленная годами житейская мудрость, выносливость, выдержка и стойкость во всех жизненных ситуациях. Бурлацкая ватага собрана из людей с разными характерами и судьбами. Вот идет рядом с Ларькой выбивающийся из сил больной старик, вытирающий пот со лба. Несколько отстает последний, еле бредущий, бурлак. Бессильно повисли его руки, лицо опущено вниз, виден только круг его фуражки. А вот беспечно закуривает трубку другой, нисколько не думая о том, что сделанный им перерыв увеличивает нагрузку на других. По берегу Волги, под палящими лучами солнца, тянут против течения реки тяжело груженную баржу 11 бурлаков. Медленно движутся они, усталые и измученные. Ноги их вязнут в глубоком песке, яркое солнце, весело обливая пустынные берега реки и выжигая растительность, немилосердно палит их головы, а они шаг за шагом идут вперед и тянут свою лямку. Бесконечно длинна Волга-матушка, бесконечен и тяжелый путь этой ватаги. В одних образах бурлаков — покорность судьбе, в других — протест и озлобление, в третьих — невозмутимость или простодушие. И только в Канине, как в едином сплаве, слилось множество характерных черт, присущих каждому бурлаку в отдельности. Канин такой же, как все, рядом с Ильком-моряком он выглядит даже человеком среднего роста; его складная коренастая фигура как будто даже не отличается особой силой. Но одновременно он и значительней всех, будто известно ему больше, чем кому-либо из остальных — не только вся подноготная жизни, но и та лучшая доля, то безоблачное счастье, о котором они все грезят... Картина «Бурлаки на Волге» первоначально была показана на выставке Общества поощрения художников в 1871 году, а затем (после второй поездки И.Е. Репина на Волгу) в окончательном, значительно измененном виде — на академической выставке в 1873 году. Репинские «Бурлаки» будили совесть, заставляли думать о судьбе народной. Ф.М. Достоевский так выразил охватившие его чувства перед картиной: «Нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, не полюбив их. Нельзя не подумать, что должен, действительно, должен народу. Вся эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через 15 лет вспомнится!» Однако не у всех представителей русского общества произведение И.Е. Репина вызвало одинаково восторженное отношение. Многие ополчились против художника, а ректор Академии художеств профессор Бруни охарактеризовал картину «как величайшую профанацию искусства». На академической выставке она появилась только в последние дни перед ее закрытием. А потом полотно попало к великому князю Владимиру Александровичу, который купил «Бурлаков» задолго до окончания работы над ними. С тех пор картина оказалась малодоступной для обозрения широкой публики, которая могла видеть ее только на выставках. В 1873 году «Бурлаков на Волге» послали в Вену на Всемирную выставку. Один из министров, не зная, что владельцем картины был великий князь, который способствовал появлению картины на венской выставке, негодовал на художника: «Ну, скажите, ради Бога, какая нелегкая дернула вас писать эту картину? Вы, должно быть, поляк?.. Ну, как не стыдно — русский! Да ведь этот допотопный способ транспортов мною уже сведен к нулю, и скоро о нем не будет и помину. А вы пишете картину, везете ее на Всемирную выставку в Вену и, я думаю, мечтаете найти какого-нибудь глупца-богача, который приобретет себе этих горилл, наших лапотников». Однако на картине И. Репина эти лапотники-бурлаки, несмотря на их изнуряющий труд, не вызывают у зрителя жалости, да они в ней и не нуждаются. Могучая, пока еще не обнаруженная сила живет в них, и, кажется, нет такой преграды, которая могла бы сдержать ее и встать у нее на пути. ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН
Илья Репин Проблема героя всегда была важнейшей в русской исторической живописи. При этом слово «герой» имело двоякое значение: герой — положительный образ, воплощающий нравственные ценности, и герой, как главное действующее лицо произведения. Особенно привлекала художников личность Ивана Грозного. Кто только не писал царя Ивана, кто только не выискивал колоритных подробностей его бурной жизни! На этом сходились, начиная еще с середины 60-х годов прошлого века, и передвижники, и участники академических салонов. Известный искусствовед Н.М. Молева считает, что начало всему положила первая часть драматической трилогии А. К. Толстого. Она отмечает у него «попытку увидеть в легендарной личности смертного человека со всеми страстями и слабостями его. Отец, муж, вечный искатель женской красоты и юности, неврастеник, не умеющий обрести душевного равновесия даже перед лицом государственных дел, — все казалось тогда откровением». Картина Ильи Ефимовича Репина, которую мы чаще всего называем «Иван Грозный убивает своего сына», имеет другое название: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Сюжетом для нее послужил подлинный исторический факт — убийство царем Иваном IV своего старшего сына Ивана. Об этом говорит и точная дата в названии картины. Причина убийства Грозным царем своего сына долгое время оставалась невыясненной. Некоторые современники считали причиной царского гнева чисто семейную сцену; другие полагали, что между царем и царевичем возник спор по вопросу о помощи осажденному поляками Пскову. Возможно, что большую роль сыграла и провокация бояр, желавших поссорить Ивана Грозного с сыном. В своей автобиографической повести «Далекое — близкое» И.Е. Репин вспоминает, что мысль о картине зародилась у него в связи с мартовскими событиями 1881 года (имеется в виду взрыв народовольцем И. И. Гриневецким бомбы, осколками которой был убит царь Александр II). В другой раз мысль написать картину «Иван Грозный и сын его Иван» пришла в голову художника, когда он возвращался с концерта Н.А. Римского-Корсакова. «Его музыкальная трилогия — любовь, власть и месть, — говорил потом художник, — так захватила меня, что мне неудержимо захотелось в живописи изобразить что-нибудь подобное по силе его музыки». Специалисты давно уже установили, что поразившее И. Репина произведение — это симфоническая сюита «Антар» Н.А. Римского-Корсакова, в основе которой лежит восточная сказка. А душу художника всколыхнула та часть «Антара», которую композитор назвал «Месть». Не сразу, не вдруг родилась у художника конкретная композиция задуманного им полотна. Сначала были просто карандашные наброски, самый общий эскиз, в котором замысел был выражен еще неясно и нечетко. Скорее всего это были всего лишь «прикидки», правда, здесь на переднем плане были уже Иван Грозный и его сын. Но сначала были здесь и стольные бояре, вбежавшие на шум, была и женщина, застывшая на пороге какого-то дальнего покоя. Сам И. Репин был недоволен этим наброском, и уже в следующем эскизе исчезли бояре и женщина, они ведь не нужны на картине. Конечно, в действительности были и крики Грозного царя, и испуганные придворные, и воздевшие руки мамки и няньки, и врач: «Рана глубока. Надежды нет, разве что на чудо». Так примерно описывали дальнейшие события современники, но это были именно «дальнейшие события». И художнику стало ясно, что на картине нужно изобразить только царя и его сына. Но как их изобразить? Как психологически наиболее верно передать глубину той трагедии, участниками которой оказались Иван Грозный и царевич Иван? Как выявить и чисто человеческую трагедию, и трагедию злоупотребления властью? Великие произведения не создаются ценой малых усилий. Да разве и была такая картина, над которой бы И.Е. Репин не работал как каторжный, с утра до ночи — неделями, месяцами, годами? Так было и на этот раз. Задумав писать большое полотно, художник принялся изучать историческую обстановку. Дворцовая палата воссоздана им по одной из комнат музея «Дом боярина XVII века», отброшенное царем кресло, зеркало и кафтан царевича написаны с натуры в Оружейной палате, царский посох — с жезла в Царскосельском дворце, а сундук художник нашел в Румянцевском музее. С исключительным живописным мастерством написаны ковер и кафтан царевича. Зритель как бы осязательно ощущает и пушистость ковра, и шелковистость халата. В своей неистребимой требовательности по пять, десять раз переделывал И. Репин готовые уже фрагменты, безжалостно разрушал то, что еще накануне ему самому нравилось. «Писал — залпами, — вспоминал он впоследствии, — мучался, переживал, вновь и вновь исправлял уже написанное, упрятывал с болезненным разочарованием в своих силах, вновь извлекал и вновь шел в атаку». Так продолжалось три года. Первые шаги на пути решения художественных образов И. Репин сделал с помощью своего единственного учителя — П. П. Чистякова. Художник бывал у профессора на даче в Царском Селе, и здесь Павел Петрович показал ему старика, ставшего прототипом царя на картине. Потом на этот образ наложились черты чернорабочего, встреченного случайно на Литовском рынке: этюд с него был написан прямо под открытым небом. А для головы царя, уже во время работы над холстом, И. Репину позировали художник Г. Г. Мясоедов и композитор П. И. Бларамберг. Какие-то частности для лица царевича он взял с этюда, сделанного с художника Менка, но в основном в роли царевича выступал писатель В. Гаршин: «У него было лицо человека, обреченного погибнуть. Это было то, что нужно для моего царевича». Художник боролся с картиной, как с тяжелым недугом. Впоследствии И.Е. Репин вспоминал: «Мне минутами становилось страшно. Я отворачивался от этой картины, прятал ее. На моих друзей она производила то же впечатление. Но что-то гнало меня к этой картине, и я опять работал над ней». Действие картины Илья Репин переносит в полумрак палаты царского дворца в Александровской слободе, где и произошло роковое столкновение отца и сына. Он изобразил первый момент осознания Грозным только что совершенного поступка. Не исторический факт, а психологический момент занимают здесь художника. Недаром Игорь Грабарь отмечал, что «успех пришел к Репину именно потому, что он создал не историческую быль, а страшную современную быль о безвинно пролитой крови». ...Отброшено в сторону кресло, на котором вот только что сидел царь, всего какое-то мгновение назад, а потом в неистовом гневе швырнул в наследника окованный железом посох... Иван Грозный у И. Репина страшен. Этот тиран, деспот, убийца, одной ногой уже стоящий в могиле, весь испачкан кровью... И не только кровью своего сына, но и кровью жителей Новгорода и Пскова, Твери и Полоцка, кровью безвестных смердов и всем ведомых «изменников». В своем неограниченном самовластии он давно освободил себя от всех нравственных законов, переступил их: он ни перед кем не ответчик, а человеческие жизни для него уже давно не представляли никакой цены. Но на этот раз царь Грозный убил своего сына и преемника, продолжателя всех своих начинаний. Отцовская любовь, ужас, горе, раскаяние, буря чувств, охвативших его после приступа безудержной ярости, — все эти сложнейшие переживания Ивана IV переданы И. Репиным с непревзойденной экспрессией. Иван Грозный в черной монашеской одежде, которую он обычно носил, крепко прижимает к себе полулежащего на полу сына и тщетно пытается остановить кровь, густой струёй текущую из раны и уносящую жизнь невинно убиенного. Лицо царя Ивана бледно, широко раскрытые, вылезающие из орбит глаза почти безумны. В противоположность Грозному, в котором все полно крайнего напряжения, царевич Иван изображен в бессильном угасании: лицо его бескровно, полупотухший глаз не видит ничего вокруг, тело обмякло и отяжелело. Лишь левая рука в последнем усилии опирается на ковер, да по мертвенно-бледной уже щеке катится горькая слеза. Светло-розовый кафтан царевича, виднеющиеся из-под него шаровары и зеленые узорчатые сафьяновые сапоги создают резкий контраст с черной одеждой отца. В цветовом построении картины И. Репина преобладает интенсивный красный цвет. Он писал чистой красной краской, без всяких примесей, потому красный цвет и разработан у художника с чрезвычайным разнообразием оттенков. Алая кровь, текущая из раны на виске царевича; красные, похожие на кровь тени в складках его кафтана; темно-красная лужа крови на красном ковре — все это создает напряженность колорита, находящегося в гармонии с изображенной на картине трагедией. А синеватый полумрак палаты и проникающий в нее из небольшого окна холодный рассеянный свет еще больше усиливают драматическую напряженность изображенной сцены. 10 февраля в петербургском доме князя Юсупова на Невском проспекте открылась выставка, на которой и была представлена картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Успех ее был просто ошеломляющий. «Как написано. Боже, как написано! — восторгался репинским полотном И. Крамской. — В самом деле, вообразите, — тьма крови, а вы о ней и не думаете, и она на вас не действует, потому что в картине есть страшное, шумно выраженное отцовское горе и его громкий крик, а в руках у него сын — сын, которого он убил!» Но чуть ли не в первые же дни выставки начались разговоры о запрещении экспонирования картины, правда, административных мер И. Репину на этот раз удалось избежать. Зато они настигли его в Москве. В апреле 1885 года по представлению оберпрокурора Синода К. П. Победоносцева картина была снята с выставки. Купивший ее П.М. Третьяков получил предписание хранить ее в недоступном для посетителей месте. Правда, через три месяца, по ходатайству художника А. П. Боголюбова, близкого ко двору, запрет был снят. Но «Ивану Грозному и сыну его Ивану» предстояло еще одно испытание, случившееся почти через 30 лет. В январе 1913 года Третьяковскую галерею посетил иконописец из старообрядцев Абрам Балашов. Постояв недолго около суриковской «Боярыни Морозовой», он внезапно метнулся к картине И. Репина и с криком «Довольно крови!» нанес полотну три удара ножом, заранее припрятанным за голенищем сапога. Удары пришлись по лицам Ивана Грозного и царевича Ивана. Восстановить живопись должен был сам И.Е. Репин, специально для этого приехавший из Куоккалы. Но со времени создания картины прошло уже почти три десятилетия, за это время изменились и художественная манера И. Репина, и трактовка им цвета. Художник ничего не стал восстанавливать, а заново написал голову царя в манере, свойственной ему к 1913 году. Кусок новой репинской живописи заплатой лег на старую картину. Через несколько часов Игорь Грабарь, возглавлявший Третьяковскую галерею, увидел на полотне свежие еще краски. Его решение по своей смелости было просто дерзким. И. Грабарь насухо стер положенные И. Репиным краски (художник к тому времени уже уехал) и «заправил», как выражаются специалисты, потерянные места акварелью, покрыв их потом лаком. Через несколько месяцев И.Е. Репин вновь оказался в Третьяковской галерее, долго стоял перед своей картиной, но так ничего и не заметил.
|
ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ Печальные обстоятельства предшествующей истории наложили на великорусское общество характер азиатского застоя, тупой приверженности к старому обычаю, страх всякой новизны, равнодушие к улучшению своего духовного и материального быта и отвращение ко всему иноземному. Но было бы клеветою на русский народ утверждать, что в нем совершенно исчезла та духовная подвижность, которая составляет отличительное качество европейских племен, и думать, что русские в описываемое нами время неспособны были вовсе откликнуться на голос, вызывающий их на путь новой жизни. Умные люди чувствовали тягость невежества; лица, строго хранившие благочестивую старину, сознавали, однако, потребность просвещения, по их понятиям, главным образом религиозно-нравственного; думали о заведении школ и распространении грамотности. Люди, с более смелым умом, обращались прямо к иноземному, чувствуя, что собственные средства для расширения круга сведений слишком скудны. Несмотря на гнет того благочестия, которое отплевывалось от всего иноземного, как от дьявола, в Москве, по известию иностранцев, находились лица, у которых стремление к познаниям и просвещению было так велико, что они выучивались иностранным языкам с большими затруднениями, происходившими как от недостатка руководств и руководителей, так и от преследования со стороны тех, которые готовы были заподозрить в этом ересь и измену отечеству. Так, Федор Никитич Романов, нареченный по пострижении Филаретом, учился по-латыни; поляки в Москве видели людей, выучившихся тайком иностранным языкам и с жадностью хватавшихся за чтение. Афанасий Власов, рассмешивший поляков своими простодушными выходками, в то же время удивил их чистым латинским произношением, показывавшим, что язык латинский был ему знаком. О многих из Ивановых жертв Курбский говорит как о людях ученых и начитанных по своему времени, и сам Курбский своим собственным примером доказывает, что московские люди XVI-го века не оставались совершенно неспособными понять пользу просвещения и необходимость сближения с иноземцами. У нас думали, что названый царь Димитрий вооружил против себя русский народ своей привязанностью к иноземцам, пренебрежением к русским обычаям и равнодушием к требованиям тогдашнего благочестия. Но вглядываясь ближе в смысл событий, увидим не то: поведение Димитрия действительно не могло нравиться строгим блюстителям неподвижности, но никак не большинству, не массе народа; так же, как и впоследствии великий преобразователь Руси, хотя и встретил против себя сильное, упорное и продолжительное противодействие, но никак не от всех, а, напротив, нашел немало искренних сторонников и ревнителей своих преобразовательных планов: иначе бы, конечно, он и не успел. Гибель названого Димитрия была делом не русского народа, а только заговорщиков, воспользовавшихся оплошностью жертвы; это доказывается тем, что народ русский тотчас же обольстился вестью, что царь его, спасенный раз в детстве в Угличе, спасся в другой раз в Москве; народ русский почти весь последовал за тенью Димитрия, до тех пор, пока не убедился, что его обманывали и Димитрия нет на свете. Самый способ убийства показывает, что народ был далек от того, чтоб погубить своего царя за его приемы, несогласные с приемами прежних царей. Шуйский вооружил народ против поляков именем того же царя и таким обманом отвлек его внимание от Кремля. Число участников Шуйского не могло быть велико; оттого-то Шуйский накануне убийства поспешил удалить из сотни караульных семьдесят человек: очевидно, он боялся не сладить с целой сотней. Таким образом, убийство Димитрия было вовсе не народным делом. Кто бы ни был этот названый Димитрий и что бы ни вышло из него впоследствии, несомненно, что он для русского общества был человек, призывавший его к новой жизни, к новому пути. Он заговорил с русскими голосом свободы, настежь открыл границы прежде замкнутого государства и для въезжавших в него иностранцев и для выезжавших из него русских, объявил полную веротерпимость, предоставил свободу религиозной совести: все это должно было освоить русских с новыми понятиями, указывало им иную жизнь. Его толки о заведении училищ оставались пока словами, но почва для этого предприятия уже подготовлялась именно этой свободой. Объявлена была война старой житейской обрядности. Царь собственным примером открыл эту борьбу, как поступил впоследствии и Петр, но названый Димитрий поступал без того принуждения, с которым соединялись преобразовательные стремления последнего. Царь одевался в иноземное платье, царь танцевал, тогда как всякий знатный родовитый человек Московской Руси почел бы для себя такое развлечение крайним унижением. Царь ел, пил, спал, ходил и ездил не так, как следовало царю по правилам прежней обрядности; царь беспрестанно порицал русское невежество, выхвалял перед русскими превосходство иноземного образования. Повторяем: что бы впоследствии ни вышло из Димитрия - все-таки он был человек нового, зачинающегося русского общества. Враг, погубивший его, Василий Шуйский был совершенною противоположностью этому загадочному человеку. Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетворялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским застоем. В нем видим мы отсутствие предприимчивости, боязнь всякого нового шага, но в то же время терпение и стойкость - качества, которыми русские приводили в изумление иноземцев; он гнул шею пред силою, покорно служил власти, пока она была могуча для него, прятался от всякой возможности стать с ней в разрезе, но изменял ей, когда видел, что она слабела, и вместе с другими топтал то, перед чем прежде преклонялся. Он бодро стоял перед бедою, когда не было исхода, но не умел заранее избегать и предотвращать беды. Он был неспособен давать почин, избирать пути, вести других за собою. Ряд поступков его, запечатленных коварством и хитростью, показывает вместе с тем тяжеловатость и тупость ума. Василий был суеверен, но не боялся лгать именем Бога и употреблять святыню для своих целей. Мелочной, скупой до скряжничества, завистливый и подозрительный, постоянно лживый и постоянно делавший промахи, он менее, чем кто-нибудь, способен был приобресть любовь подвластных, находясь в сане государя. Его стало только на составление заговора, до крайности грязного, но вместе с тем вовсе не искусного, заговора, который можно было разрушить при малейшей предосторожности с противной стороны. Знатность рода помогла ему овладеть престолом, главным образом оттого, что другие надеялись править его именем. Но когда он стал царем, природная неспособность сделала его самым жалким лицом, когда-либо сидевшим на московском престоле, не исключая и Федора, слабоумие которого покрывал собой Борис. Сама наружность Василия была очень непривлекательна: это был худенький, приземистый, сгорбленный старичок, с больными подслеповатыми глазами, с длинным горбатым носом, большим ртом, морщинистым лицом, редкою бородкою и волосами. Василию, при вступлении на престол, было уже за пятьдесят лет. Молодость свою провел он при Грозном и решительно ничем не выказал себя. Когда родственники его играли важную роль в государстве, Василий оставался в тени. Опала, постигшая его родного брата Андрея, миновала Василия. Борис не боялся его, вероятно, считая его ничтожным по уму и притом всегдашним угодником силы; говорят, однако, Борис запрещал ему жениться, как и Мстиславскому. Василий все терпел и повиновался беспрекословно. Посланный на следствие по поводу убийства Димитрия, Василий исполнил это следствие так, как нужно было Борису и как, вероятно, ожидал того Борис. Явился Димитрий. Борис послал против него Шуйского, и Василий верно служил Борису. Бориса не стало. При первом народном восстании против Годуновых в Москве, Василий выходил на площадь, уговаривал народ оставаться в верности Годуновым, уверял, что царевича нет на свете и человек, назвавшийся его именем, есть Гришка Отрепьев. Но когда после того воззвание, прочитанное Пушкиным с лобного места, взволновало народ до того, что можно было ясно видеть непрочность Годуновых, Шуйский, призванный решить вопрос о подлинности Димитрия, решил его в пользу претендента и окончательно погубил несчастное семейство Годуновых. Само собою разумеется, что если кто из бояр был вполне уверен, что названый Димитрий не действительный сын царя Ивана, то, конечно, Василий Шуйский, видевший собственными глазами труп убитого царевича. С Шуйским были в приязни московские торговые люди: это была старая фамильная приязнь; и в то время, когда Шуйские хотели развести Федора с женою, они опирались на торговых людей. Торговые люди были вхожи в дом Василия, и вот одному из них Федору Коневу с товарищами Шуйский сообщает, что царь вовсе не Димитрий, возбуждает опасение, что этот царь изменяет православию, что у него с Сигизмундом и польскими панами поставлен уговор разорить церкви и построить вместо них костелы, указывает на то, что некрещеные поляки и немцы входят в церковь, что при дворе соблюдаются иноземные обычаи, что настанет великая беда старому благочестию. Торговые люди начали болтать о том, что слышали от большого боярина, попались и выдали Шуйского. Не царь, а народный суд всех сословий приговорил Василия к смерти. С терпением и мужеством Василий пошел на казнь и, не ожидая спасения, бестрепетно сказал народу: "Умираю за веру и правду!" Палач хотел с него снять кафтан и рубаху с воротом, унизанным жемчужинами. Князь, потомок Св. Владимира, с гордостью и достоинством воспротивился, говоря: "Я в ней отдам Богу душу". Великодушие названого Димитрия спасает его от смерти. Он отправлен в Вятку, но только что успел прибыть в этот город, как царский гонец привозит ему известие о возвращении ему боярского сана и всех прежних вотчин. Шуйский притворяется верным слугою Димитрия, склоняется перед ним так же, как склонялся перед Годуновым, и кто знает, как долго оставался бы он в этом положении, если бы сам Димитрий своею крайнею неосторожностью не подал ему повода составить заговор. Не обладая способностью давать почин важному делу, Шуйский составил заговор потому, что уже чересчур было легко его составить. Приезд поляков, наглое поведение пришельцев и чересчур явное нарушение обычного хода жизни в Москве, соблазнившее строго благочестивых людей, естественно образовали кружок недовольных. Старым боярам не нравилось стремление царя к нововведениям и к иноземным обычаям, при котором им, детям старой Руси, не представлялось играть первой роли. Торговые, зажиточные люди свыклись со своим образом жизни; их беспокоило то, что делалось перед их глазами и грозило нарушить вековой застой; притом же, в их домах поставили "нечестивую Литву", которая нахально садилась им на шею. Наконец, можно было найти недовольных и между служилыми, которых пугала предпринимаемая война с турками и татарами. Шуйскому легко было собрать их к себе, когда над его действиями не только не было надзора, но даже запрещалось иметь его. Голос Шуйского не мог остаться без внимания, когда он говорил собранным у него гостям то, что у них самих шевелилось на душе. Знатность его рода, как старейшей отрасли Св. Александра Невского, содействовала уважению к его речам, также как и достоинство боярина, старого по летам и по службе. При всем том, однако, он нашел очень мало соумышленников; видно, что находились между ними и такие, которые тогда же думали предать его с заговорщиками. За недостатком соумышленников, Шуйский выпустил из тюрем преступников: подобные товарищи естественно готовы были исполнять всякое дело. Малейшее внимание царя к тому, что делалось вокруг него, уничтожило бы все замыслы Шуйского. Разделавшись с Димитрием, Шуйский бросился усмирять народ, возмущенный им же против поляков во имя царя, но москвичи успели уже перебить до четырехсот человек пришельцев, сопровождая свое убийство самыми неистовыми варварствами, нападали на сонных и безоружных и не только убивали, но мучили: отсекали руки и ноги, выкалывали глаза, обрезали уши и носы, ругались над женщинами, обнажали их, гоняли по городу в таком виде и били. С большим трудом Шуйский и бояре остановили кровопролитие и всякие неистовства. Народ в этот день до того перепился, что не мог долго дать себе отчета в происходившем. Волей-неволей народ сделался участником убийства названого Димитрия. Возвратить потерянного уже нельзя было. Народ молчал в каком-то оцепенении. Через три дня бояре согласились выбрать Шуйского в цари, с тем, что он будет править не иначе, как с согласия бояр. Созвали народ на площадь звоном колокола. Приверженцы Шуйского немедленно "выкрикнули" его царем. Некоторые заявили, что следует разослать во все московские города грамоты, чтобы съехались выборные люди для избрания царя; но бояре решили, что этого не нужно, и сейчас же повели Василия в церковь, где он дал присягу управлять согласно боярским приговорам, никого не казнить без воли бояр, не отнимать у родственников осужденных служилых людей вотчин, а у гостей и торговых людей лавок и домов, и не слушать ложных доносов. После произнесения Шуйским этой присяги, бояре сами присягнули ему в верности. Немедленно разослана была по всем городам грамота, извещавшая, будто, по приговору всех людей Московского государства, и духовных и светских, избран на престол князь Василий Иванович Шуйский, по степени прародителей происходящий от Св. Александра Невского и суздальских князей. О бывшем царе сообщалось, что богоотступник, еретик, чернокнижник, сякой-такой сын Гришка Отрепьев, прельстивши московских людей, хотел, в соумышлении с папой, Польшей и Литвой, попрать православную веру, ввести латинскую и лютерскую и вместе с поляками намеревался перебить бояр и думных людей. Одновременно разослана была грамота от имени царицы Марфы, извещавшая о том, что ее сын убит в Угличе, а она признала вора сыном поневоле, потому что он угрожал ей и всему ее роду смертным убийством. В заключение, вдовствующая царица объявляла, что она, вместе с другими, била Василию челом о принятии царского сана. До какой степени на самом деле уважал царь Василий мать Димитрия, показывает ее просьба к польскому королю, писанная по низложении Шуйского, в которой инокиня Марфа жалуется, что Шуйский держал ее в неволе и даже не кормил, как следует. Первым делом Шуйского, после рассылки грамот, было перевезти тело царевича Димитрия в Москву. За этим телом в Углич поехал митрополит Филарет Никитич с двумя архимандритами, двое Нагих: Григорий и Андрей, князь Иван Михайлович Воротынский и Петр Никитич Шереметев. 1-го июня Василий венчался на царство, а 3-го июня перевезены мощи Димитрия и поставлены в Архангельском соборе. В грамоте, разосланной по поводу явления нового святого, было сказано, что царица Марфа всенародно каялась в том, что поневоле признавала вора Гришку сыном, а смерть царевича Димитрия прямо приписана была Борису Годунову. Для большего убеждения народа на лобном месте показывали родных Гришки Отрепьева. Но всему этому не верили тогда в Московском государстве, и, в день открытия мощей, народ чуть было не взбунтовался и не убил каменьями Шуйского. Даже те, которые сомневались в подлинности бывшего царя Димитрия, не верили, чтоб он был Гришка, а считали его поляком, которого подготовили иезуиты, научили по-русски и пустили играть роль Димитрия. На патриаршеский престол, вместо низверженного Игнатия, был поставлен казанский митрополит Гермоген, отличавшийся в противоположность прежнему патриарху фанатической ненавистью ко всему иноверному. Страшась мести со стороны Польши за перебитых в Москве поляков, Шуйский с боярами рассудили, что лучше всего задержать у себя всех поляков и даже послов Сигизмунда, Олесницкого и Гонсевского, а между тем послать своих послов в Польшу и выведать там, что намерены делать поляки. Не долго Шуйскому пришлось утешаться безопасностью. В Москве происходили волнения; 15 июня, в воскресенье, сделался шум и бунт. Шуйский подозревал, что это происходит от козней знатных лиц, созвал в Кремль думных людей и стал спрашивать: "Кто это из вас волнует народ? Зачем вымышляете разные коварства? Коли я вам нелюб, я оставлю престол, возьмите мой царский посох и шапку, выбирайте, кого хотите". Думные люди уверяли, что они верны в своем крестном целовании. "Так наказывайте виновных", - сказал Шуйский. Думные люди вышли на площадь и уговорили народ разойтись. Пятерых крикунов схватили, высекли кнутом и сослали. Но то было только начало смуты. Через два месяца на юге разнесся слух, что Димитрий жив и убежал в Польшу. Вся северская земля, Белгород, Оскол, Елец провозгласили Димитрия. Ратные люди, собранные под Ельцом прежним царем, не хотели повиноваться Шуйскому, избрали предводителем Истому Пашкова и присягнули все до единого стоять за законного царя Димитрия. В Комарницкой волости Болотников возвестил, что он сам видел Димитрия и Димитрий нарек его главным воеводой. Болотников был взят еще в детстве в плен татарами, продан туркам, освобожден венецианцами, жил несколько времени в Венеции и, возвращаясь в отечество через Польшу, виделся с Молчановым, который уверил его, что он Димитрий. Болотников, никогда не видавший царя Димитрия, действовал с полной уверенностью, что стоит за законного государя. Он начал возбуждать боярских людей против владельцев, подчиненных против начальствующих, безродных против родовитых, бедных против богатых. Его грамоты произвели мятеж, охвативший Московское государство подобно пожару. В Веневе, Туле, Кашире, Алексине, Калуге, Рузе, Можайске, Орле, Дорогобуже, в Зубцове, Ржеве, Старице провозгласили Димитрия. Дворяне Ляпуновы подняли, именем Димитрия, всю рязанскую землю. Возмутился город Владимир со всей своей землей. Во многих поволжских городах и в отдаленной Астрахани провозгласили Димитрия. Только Казань и Нижний Новгород еще держались кое-как за Шуйского. В пермской земле отказали Василию давать ратных людей, служили молебны о спасении Димитрия и пили чаши за его здоровье. Новгород и Псков оставались пока верными Шуйскому, но псковские пригороды стояли за Димитрия. Если бы в это время на самом деле явился человек с именем Димитрия, то вся русская земля пошла бы за ним. Но он не являлся, и многие сомневались в справедливости слухов об его спасении, а потому и не решались открыто отпасть oт царствовавшего в Москве государя. Тем не менее к Болотникову стеклась огромная толпа. Он из северской земли двинулся к Москве: города сдавались за городами. 2 декабря Болотников был уже в селе Коломенском. К счастью Шуйского, в полчище Болотникова сделалось раздвоение. Дворяне и дети боярские, недовольные тем, что холопы и крестьяне хотят быть равными им, не видя притом Димитрия, который бы мог разрешить между ними споры, стали убеждаться, что Болотников их обманывает, и начали отступать от него. Братья Ляпуновы первые подали этому отступлению пример, прибыли в Москву и поклонились Шуйскому, хотя не терпели его. Болотников был отбит Скопиным-Шуйским и ушел в Калугу. Избавившись от осады, Шуйский, по совету с патриархом Гермогеном, пригласил в Москву бывшего патриарха Иова. 20 февраля 1607 года последний разрешил народ от клятвы, наложенной им за нарушение крестного целования Борису. Еще прежде того Шуйский приказал перевезти тела Бориса, его жены и сына и похоронить в Троицко-Сергиевом монастыре. Этими поступками хотел Шуйский примириться с прошлым и тем придать своей власти более законности. Но с наступлением лета силы Болотникова опять начали увеличиваться пришедшими казаками. Явился новый самозванец, родом муромец, незаконный сын "посадской женки", Илейка, ходивший прежде в бурлаках по Волге. Он назвал себя царевичем Петром, небывалым сыном царя Федора; с волжскими казаками пристал он к Болотникову. После нескольких битв, Шуйский осадил Болотникова и названого Петра в Туле. Какой-то муромец Мешок Кравков сделал гать через реку Упу и наводнил всю Тулу: осажденные сдались. Шуйский, обещавши Болотникову пощаду, приказал ему выколоть глаза, а потом утопить. Названого Петра повесили; простых пленников бросали сотнями в воду, но бояр, князей Телятевского и Шаховского, бывших с Болотниковым, оставили в живых. Воротившись в Москву, Шуйский думал, что теперь для него наступила пора успокоиться, и женился на княжне Марье Петровне Буйносовой-Ростовской, с которой обручился еще при жизни названого царя Димитрия. Новые тревоги не давали ему отдохнуть: вместо повешенного названого Петра явилось несколько царевичей. В Астрахани явился царевич Август, называвший себя небывалым сыном царя Ивана Васильевича от жены Анны Колтовской; потом там же явился царевич Лаврентий, также небывалый сын убитого отцом царевича Ивана Ивановича. В украинских городах явилось восемь царевичей, называвших себя разными небывалыми сыновьями царя Федора (Федор, Ерофей, Клементий, Савелий, Семен, Василий, Гаврило, Мартын). Все эти царевичи исчезли так же быстро, как появились. Но в северской земле явился наконец долгожданный Димитрий и, весной 1608 года, с польской вольницей и казаками двинулся на Москву. Дело его шло успешно. Ратные люди изменяли Шуйскому и бежали с поля битвы. Новый самозванец, в начале июля 1608 года, заложил свой табор в Тушине, от чего и получил у противников своих название Тушинского вора, оставшееся за ним в истории. Города и земли русские одни за другими признавали его. Полчище его увеличивалось с каждым часом. Переговоры Шуйского с Польшей должны были решить, чего нужно было Московскому государству ждать от польского правительства. Переговоры эти шли очень медленно. Задержавши в 1606 году польских послов Олесницкого и Гонсевского, Василий отправил князя Григория Волконского с объяснениями. Волконский пробыл в Польше больше года и натерпелся там всяких упреков и оскорблений. Вслед за тем, в октябре 1607 года, прибыли новые польские послы (Друцкий-Соколинский и Витовский) в Москву. Переговоры с ними шли до июля 1608 года и наконец кончились тем, что обе стороны заключили перемирие на три года и одиннадцать месяцев, а в продолжение этого времени Польша обязалась не помогать никаким самозванцам и запретить всем полякам поддерживать Тушинского вора. Со своей стороны, царь Василий отпускал всех задержанных поляков, с условием, чтобы они не сносились с теми из своих соотечественников, которые находились в тушинском таборе; Марина не именовала бы себя царицей, а Мнишек не называл бы своим зятем Тушинского вора. Но в противность этим условиям, Мнишек с Мариной и другими поляками очутились в тушинском таборе. Марина всенародно признала вора своим мужем, большая часть русских городов и земель опять отпала от Шуйского и провозгласила Димитрия. В таких печальных обстоятельствах Шуйский обратился за помощью к шведам. Положение царя Василия в Москве было самое жалкое. Никто не уважал его. Им играли, как ребенком, по выражению современников. Шуйский то обращался к церкви и к молитвам, то призывал волшебниц и гадальщиц, то казнил изменников, но только незнатных, то объявлял москвичам: "Кто мне хочет служить, пусть служит, а кто не хочет служить - пусть идет: я никого не насилую". Москвичи уверяли своего царя в верности, а потом многие перебегали в Тушино; побывавши в Тушине, ворочались в Москву: поживши в Москве, опять бежали в Тушино; беглец, явившийся в Тушино, целовал крест Димитрию и получал от него жалованье, а вернувшись в Москву, целовал крест Василию и от него получал также жалованье. Чтобы отвадить народ от вора, Шуйский постановил давать свободу тем холопам, которые уйдут из Тушина, но выходило, что многие холопы из Москвы бежали в Тушино, чтобы после, вернувшись, получить от царя свободу. Московские торговцы без зазрения совести возили в Тушино всякие товары, разживались и копили копейку про черный день, не пускали своих денег в оборот и от этого в Москве делался недостаток: он стал особенно чувствителен зимой, когда тушинцы отрезали путь из Рязани в Москву. 17-го февраля 1609 года толпа, под начальством князя Романа Гагарина, Григория Сумбулова, бросилась в Кремль; она состояла из многих служилых людей разных городов и, обратившись к боярам, кричала: "Надобно переменить царя! Василий сел самовольством, не всей землей выбран". Некоторые бояре уже были не в ладах с Шуйским, особенно Голицыны, так как князь Василий Васильевич Голицын сам помышлял о престоле. Но они не решились стать заодно с мятежниками, потому что за Шуйского был патриарх Гермоген. Замечательно, что патриарх сам постоянно не ладил с царем, но из чувства законности стоял за него, как уже за существующую верховную власть. Толпа мятежников вышла из Кремля на Красную площадь. Ударили в набат. Явился патриарх. "Князь Василий Шуйский нелюб нам на царстве, - кричала толпа. - Он тайно убивает и сажает нашу братию в воду!" "А кого же казнил Шуйский?" - спросил патриарх. Мятежники не назвали имен, но кричали: "Из-за Василия кровь льется, и земля не умирится, пока он будет на царстве. Его одна Москва выбрала, а мы хотим избрать иного царя!" Патриарх на это сказал: "До сих пор Москва всем городам указывала, а ни Новгород, ни Псков, ни Астрахань и никакой другой другой город не указывал Москве; а что кровь льется, то это делается по воле Божьей, а не по хотению вашего царя". Убеждения патриарха спасли на этот раз Василия; но дороговизна увеличилась; в апреле боярин Крюк-Колычев составил заговор убить Василия. Умысел был открыт. Зачинщика казнили. Положение царя становилось все ужаснее: до него доходили слухи, что его убьют то на Николин день, то на Вознесенье. Народ врывался к нему во дворец и кричал: "Чего еще нам дожидаться! Разве голодной смертью помирать?" Царь обнадеживал москвичей скорым прибытием Скопина со шведскими людьми и убеждал купцов не поднимать цены на хлеб. Но московские купцы поступали так же, как некогда при Борисе: припрятывали хлеб, чтобы продавать его по дорогой цене. На счастье Василию в это время дела Тушинского вора пошли неудачно. Города, прежде признававшие его, выведенные из терпения бесчинством поляков и русских воров, один за другим отпадали и признавали царя Василия. Крестьяне собирались шайками, били и топили шатавшихся тушинцев. Сапега ничего не мог сделать с Троицким монастырем. Он беспрестанно палил по его стенам из 90 орудий; монастырь не сдавался, несмотря на то, что начальствующие в монастыре воеводы Долгорукий-Роща и Голохвастов были во вражде между собой, а осажденные, при большой тесноте и недостатке, умирали от цинги. Ратные люди, оборонявшие монастырь, делали частые вылазки и наносили неприятелю много вреда. Наконец, и попытки тушинцев овладеть Москвою не имели успех. 25 июня москвичи отбили их нападение на Ходынку и взяли в плен двести человек. Прокопий Ляпунов очистил от воров рязанские города. Стоявший под Коломной отряд тушинцев ушел оттуда. Но более всего поправились дела Василия после успехов Скопина. Зимой тушинский лагерь пришел в совершенное расстройство. 12 января 1610 года Сапега отступил от Троицы; в феврале убежал вор в Калугу, а в начале марта Тушино совершенно опустело. Почти вся Русь покорилась Василию; но с запада на него наступала беда: Сигизмунд стоял под Смоленском, а русские, бывшие в Тушине, явились к польскому государю просить на Московское царство Владислава. Судьба, казалось, не давала Василию ни минуты отдыха. Одна беда проходила, другая, погрознее, наступала. В конце апреля скоропостижно скончался Скопин, и это приблизило падение Василия. Народная молва считала царя участником его смерти. Уже поляки и запорожцы забирали южные города: Стародуб, Почеп, Чернигов взяты были приступом и ограблены. Новгород-Северский и Рославль целовали крест Владиславу. Вместо Скопина царь назначил главным предводителем войска своего брата Димитрия, но русские не терпели его, а жену его Екатерину считали убийцей Скопина. Шведский полководец Делагарди презирал Димитрия Шуйского за неспособность. Московские пленники сообщили под Смоленском полякам, что народ не любит Василия, что войско не захочет за него биться и вся Русь охотно признает Владислава царем. По этим известиям, Сигизмунд отправил к Москве войско под начальством коронного гетмана Жолкевского. Войско Шуйского, тысяч в тридцать, двинулось к Можайску; с ним шел и Делагарди со своей ратью, состоящей из людей разных наций. В московском войске было много новобранцев, в первый раз шедших на бой. Охоты защищать царя Василия не было ни у кого. Враги встретились 23 июня между Москвой и Можайском, при деревне Клушино. От первого напора поляков побежала московская конница, смяла пехоту: иноземцы, бывшие под начальством Делагарди, взбунтовались и стали передаваться неприятелю. Тогда начальники московского войска, Димитрий Шуйский, Голицын, Мезецкий, убежали в лес, а за ними и все бросились врассыпную. Жолкевскому досталась карета Димитрия Шуйского, его сабля, булава, знамя, много денег и мехов, которые Димитрий намеревался раздать войску Делагарди, но не успел. Делагарди, оставленный своими подчиненными, изъявил желание переговорить с гетманом Жолкевским, и когда гетман приехал к нему, то Делагарди выговорил у него согласие уйти беспрепятственно из пределов Московского государства. "Наша неудача, - сказал Делагарди, - происходит от неспособности русских и вероломства моих наемных воинов. Не то было бы с теми же русскими, если бы ими начальствовал доблестный Скопин. Но его извели, и счастье изменило московским людям". Жолкевский принудил сидевших в Цареве-Займище Елецкого и Валуева присягнуть Владиславу, присоединиться к нему с их пятитысячным отрядом и пошел прямо на Москву. Можайск сдался ему без сопротивления. Волок-Ламский, Ржев, Погорелое Городище, Иосифов монастырь покорились добровольно. По совету Валуева, Жолкевский послал агентов своих в Москву с грамотами, в которых обещал русской земле тишину и благоденствие под правлением Владислава, если русские изберут королевича царем. Эти грамоты разбрасывались по улицам, ходили по рукам, всенародно читались на сходках. Царь Василий не мог ничего сделать. С другой стороны подходил Тушинский вор из Калуги и 11 июля стал в Коломенском селе. Тогда Прокопий Ляпунов написал своему брату Захару и боярину Василию Васильевичу Голицыну, что следует удалить и Шуйского и вора. 17 июля Захар Ляпунов собрал сходку дворян и детей боярских за Арбатскими воротами и сказал: "Наше государство доходит до конечного разорения. Там поляки и Литва, тут калужский вор, а царя Василия не любят. Он не по правде сел на престол и несчастен на царстве. Будем бить ему челом, чтобы он оставил престол, а калужским людям пошлем сказать, пусть они своего вора выдадут; и мы сообща выберем всей землей иного царя и встанем единомысленно на всякого врага". Послали в Коломенское. Русские, бывшие при воре, сказали: "Сведите Шуйского, а мы своего Димитрия свяжем и приведем в Москву". После такого ответа толпа отправилась к царю Василию. Выступил вперед дюжий плечистый Захар Ляпунов и сказал царю: "Долго ли за тебя кровь христианская будет литься? Ничего доброго от тебя не делается. Земля разделилась, разорена, опустошена; ты воцарился не по выбору всей земли; братья твои окормили отравой государя нашего Михаила Васильевича, оборонителя и заступника нашего. Сжалься над нами, положи посох свой! Сойди с царства. Мы посоветуем сами о себе иными мерами". Василий вышел из себя, обнажил большой нож, который носил при себе, бросился на Ляпунова и закричал: "Как ты смеешь мне это говорить, когда бояре мне того не говорят?" Ляпунов погрозил ему своей крепкой рукой и сказал: "Василий Иванович! Не бросайся на меня, а то я тебя вот так тут и изотру!" Бывшие с Ляпуновым дворяне сказали: "Пойдем, объявим народу". Они вышли на Красную площадь и зазвонили в колокол. Народ сбежался. Захар Ляпунов с лобного места приглашал патриарха, духовенство, бояр, служилых людей и всякого чина православных христиан за Серпуховские ворота на всенародную сходку. Народ повалил за Серпуховские ворота. Приехали патриарх, бояре. "Вот три года - четвертый сидит Василий Шуйский на царстве, - говорили народу, - неправдой сел, не по выбору всей земли, и нет на нем благословения Божьего; нет счастья земле! Как только его братья пойдут на войну, так и понесут поражение: сами прячутся, а ратные разбегаются! Собирайтесь в совет, как нам Шуйского отставить, а иного выбрать всей землей". Патриарх хотел было защищать Шуйского, которого не любил, но потом уехал. Бояре отправились к царю. Свояк царя Василия, Иван Мих. Воротынский сказал ему: "Вся земля бьет тебе челом; оставь свое государство ради междуусобной брани, затем, что тебя не любят и служить тебе не хотят". Царю Василию ничего не осталось,
|
ПЕРЕВОРОТ ЕКАТЕРИНЫ II Россия. 1762 год Со смертью императрицы Елизаветы Петровны в декабре 1761 года пресеклась династия Романовых Престол перешел к Карлу‑Петру‑Ульриху, успевшему за короткое правление дать начало новой династии — Романовых‑Голш‑тейн‑Готторпов С именем голштинского принца, внука Петра Великого и Карла XII, связывалось множество надежд и беспокойств. В 1745 году великого князя женили на троюродной сестре — шестнадцатилетней принцессе Софии Августе Фредерике из мелкого княжества Ангальт‑Цербст. После принятия православия принцессе дали имя Екатерины Алексеевны. Переход трона к Петру III прошел спокойно — без попыток Екатерины этому противодействовать. По‑видимому, свою роль сыграла беременность великой княгини — в апреле 1762 года у нее родился сын от Григория Орлова— будущий граф Алексей Бобрин‑ский. Уже через полгода после воцарения Петра общество было настроено против него. Духовенство выражало недовольство секуляризацией церковных земель, в результате по стране распространились слухи о пренебрежении царя основами православия, о том, как Петр III, громко смеясь, ходит по церкви во время службы, да и вообще собирается ввести в России лютеранство. Гвардия не одобряла планов императора отправить ее на войну с Данией. Промышленники выступали против запрета на покупку крепостных к заводам. Чиновников беспокоила непредсказуемость Петра. Да и дворянство, поначалу вознамерившееся отблагодарить его за Манифест о вольности сооружением золотой статуи императора, быстро поняло, что ничего хорошего от Петра ждать не приходится. Национальные чувства русских людей оскорбляло подчеркнутое благоговение императора перед прусским королем, недавним противником России, потерпевшим от русской армии сокрушительное поражение. Петр демонстративно ходил в прусском военном мундире, носил на груди прусский орден, а на руке— перстень с миниатюрным портретом Фридриха и гордился тем, что король сделал его генерал‑майором прусской армии. Екатерине Алексеевне приходилось нелегко. Французский посланник Бре‑тейль писал. «Положение императрицы самое отчаянное, ей выказывают полнейшее презрение . Император удвоил внимание к девице Воронцовой. Он назначил ее гофмейстериною Она живет при дворе и пользуется чрезвычайным почетом…» Привязанность Петра к Елизавете Романовне Воронцовой была сильной и глубокой. Именно в этом и заключалась опасность для Екатерины. Фаворитку поддерживал влиятельный при дворе клан Воронцовых во главе с ее дядей — канцлером Михаилом Илларионовичем. В письме барону Остену в июне 1762 года сама Екатерина писала, что Воронцовы замыслили заточить ее в монастырь и посадить на престол рядом с Петром свою родственницу. Друзья Екатерины предлагали ей, используя всеобщую ненависть к Петру, свергнуть его, заточить в каземат, чтобы самой править как самодержице или как регентше при малолетнем императоре Павле I. Тот же Бретейль сообщал: «Я полагаю, что императрица, смелость и горячность коей мне известны, решится рано или поздно на крайние меры. У нее есть друзья, которые стараются успокоить ее, но они решатся для нее на все, ежели она того потребует». Среди наиболее активных заговорщиков — гвардейские офицеры во главе с пятью братьями Орловыми, шеф Измайловского полка, президент Академии наук граф К. Разумовский; воспитатель великого князя Павла, опытный дипломат Н. Панин и его брат генерал П. Панин, их племянница княгиня Е. Дашкова, родная сестра фаворитки Петра III M. Воронцова, и ряд других. У каждого из них были свои резоны способствовать перевороту. Так, Николай Панин рассчитывал, что Екатерина станет лишь регентшей до совершеннолетия его воспитанника Павла. Братья Орловы надеялись, что возведение на трон Екатерины возвысит их, а может быть, даже приведет к ее браку с Григорием. Юная и романтически настроенная Дашкова просто сочувствовала обиженной и униженной мужем императрице, а Разумовский, как утверждала впоследствии сама Екатерина, был в нее слегка влюблен. Вокруг Петра III быстро сгущалась атмосфера заговора, что ощущал даже его ближайший друг король Фридрих, настоятельно рекомендовавший ему принять меры безопасности Но Петр отвечал королю: «Если б русские хотели сделать зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не принимаю никаких предосторожностей. Могу вас уверить, что, когда умеешь обходиться с ними, то можно быть покойным на их счет». План братьев Орловых заключался в том, чтобы по испытанному образцу петербургских дворцовых революций захватить императора в его покоях, объявить его низложенным и тем самым ограничить событие пределами императорского дворца. Этот план не был исполнен, поскольку Петр III неожиданно покинул Петербург и отправился в летнюю резиденцию Ораниенбаум на Финском заливе, примерно в 40 километрах от города. Из‑за этого выступление против императора было перенесено из стен дворца в гвардейские казармы и на улицы Петербурга. Срок переворота невольно определил сам Петр III, отдав гвардии приказ готовиться к выступлению в поход против Дании. Кроме того, приходилось считаться с возможностью ареста Екатерины и заключения ее в монастырь. 12 июня император отправился в Ораниенбаум, оставив жену и сына в столице. 17 июня Екатерина также покинула Петербург и прибыла в Петергоф, поручив Павла заботам воспитателя Николая Панина. 19 июня императрица посетила мужа в Ораниенбауме, где присутствовала на театральном представлении, во время которого Петр играл на скрипке. Затем она вернулась в Петергоф. В ночь на 28 июня Екатерина была разбужена Алексеем Орловым, братом ее любовника, сообщившим, что необходимо действовать немедленно, поскольку арестован один из заговорщиков, гвардейский офицер Петр Пассек. Орлов произнес исторические слова: «Пора вставать, все готово, чтобы провозгласить вас1» Чуть раньше Федор Орлов сообщил Кириллу Разумовскому, что брат Алексей собирается ехать за Екатериной в Петергоф, чтобы доставить ее в Измайловский полк, где много расположенных к императрице офицеров. Разумовский как президент Академии наук тут же распорядился привести академическую типографию в полную готовность, чтобы начать печатать манифест о восшествии на престол императрицы Екатерины II. Поскольку Екатерина не хотела довольствоваться ролью регентши при своем сыне, в манифесте, опережая события, говорилось, что ее верноподданные уже принесли ей клятву верности как «императрице и самодержице всея Руси». Из Петергофа Екатерина помчалась в Петербург с такой скоростью, что по дороге пришлось менять загнанных лошадей. В столице ее встретил Григорий Орлов и доставил прямо в казармы Измайловского гвардейского полка. У слободы Измайловского полка коляску окружили гвардейцы, оглушительно крича здравицы «матушке». Тут же священник привел солдат и офицеров к присяге, и во главе с графом Разумовским измайловцы двинулись вслед за коляской к казармам Семеновского полка. Вскоре к ним присоединились пре‑ображенцы. При выезде на Невский проспект императрицу приветствовала в полном составе Конная гвардия с развернутым знаменем Народ встречал ее радостными криками: кабатчикам было велено отпускать выпивку бесплатно. Город был охвачен всеобщим ликованием, и лишь несколько офицеров остались верны присяге Петру III. Они были арестованы, но с благополучным завершением переворота освобождены и по большей части продолжили службу новой государыне. В 9 часов утра Екатерина в сопровождении группы офицеров прибыла в переполненный Казанский собор. Высшее руководство последовало примеру полкового клира, и под звон колоколов церковь благословила вновь провозглашенную императрицу как самодержицу Екатерину II. Затем собравшиеся в Зимнем дворце высшие сановники империи, члены Сената и Святейшего синода, придворные чины и генералы принесли присягу императрице. Уже к 10 часам утра церемония восшествия Екатерины на престол завершилась. Тотчас же весть о смене правления и приказ о возвращении были посланы вдогон трех полков, уже выступивших в поход на Данию. Гонцов отправили также в Кронштадт, Ливонию и Померанию, где находились значительные воинские соединения, к помощи которых мог попытаться прибегнуть Петр. Весьма вероятно, что многие подданные Екатерины, принося ей присягу, считали, что ее супруга нет в живых. «Повсюду уже распускали слух, будто император накануне вечером упал с лошади и ударился грудью об острый камень, после чего в ту же секунду скончался», — сообщал советник датского посольства Шумахер. В объявленном манифесте о нем не было ни слова. Екатерина лишь заявила в весьма туманной формулировке, что «Мы были вынуждены, в конце концов, прибегнуть к Господу и его справедливости и, исполняя общее и нелицемерное желание всех подданных, взойти на Наш верховный русский императорский трон». А чем же занимался в это время Петр III? Утром император прибыл в Петергоф, где намечалось праздновать его именины. Но Екатерины там не оказалось. Петр вернулся в Ораниенбаум и стал одного за другим направлять вельмож в Петербург выяснить, что происходит. Посланцы уезжали и не возвращались. Узнав о перевороте, большинство из них сразу же принесло присягу Екатерине. Лишь во второй половине дня Петр III узнал о перевороте в Петербурге. В его свите находились канцлер Воронцов, вице‑канцлер Голицын, фельдмаршал Миних, прусский посланник барон фон дер Гольц. Когда принялись обсуждать ответные меры, один из советников предложил императору немедленно отправляться в Петербург, выступить перед войсками и перед народом и настаивать на своих неоспоримых правах. Однако Петр III не решился на этот рискованный шаг. Император направил указ в Кронштадт, чтобы немедленно прислали в Петергоф три тысячи солдат; такой же указ получили и негвардейские полки, стоявшие в столице, — Астраханский и Ингерманландский. Им он приказал срочно маршировать в Ораниенбаум. В случае успеха замысла Петра и его окружения поход Екатерины с веселыми гвардейцами мог бы закончиться не так триумфально. Однако Петр упустил время, и когда он сел на галеру и подошел к кронштадтской гавани, вход в нее был уже перекрыт бонами, а караульный мичман Михаил Кожухов в ответ на приказ императора пропустить его в гавань прокричал, что теперь уже нет Петра III, а есть только Екатерина П. Это означало, что эмиссары Екатерины поспели в Кронштадт раньше, чем люди императора. Выход в открытое море также был перекрыт вооруженным кораблем. После безуспешной попытки найти защиту в крепости Кронштадт Петр отказался даже от бегства через Лифляндию в Пруссию. В полуобморочном состоянии и, как передают, почти неспособный говорить, он возвратился в Ораниенбаум. Между тем Екатерина во главе войск выступила из Петербурга, чтобы арестовать незадачливого супруга. С ней была значительная сила: три пехотных гвардейских полка, конногвардейцы, полк гусар и два полка инфантерии. Впрочем, опасаться серьезного сопротивления со стороны голштинцев не приходилось по причине их крайней малочисленности. «Была ясная летняя ночь, — писал один из первых биографов императрицы А. Г. Брикнер.»— Екатерина, верхом, в мужском платье, в мундире Преображенского полка, в шляпе, украшенной дубовыми ветвями, из‑под которой распущены были длинные красивые волосы, выступила с войском из Петербурга, подле императрицы ехала княгиня Дашкова, также верхом и в мундире: зрелище странное, привлекательное, пленительное. Эта сцена напоминала забавы Екатерины во времена юношества, ее страсть к верховой езде, и в то же время здесь происходило чрезвычайно важное политическое действие: появление Екатерины в мужском костюме, среди такой обстановки, было решающим судьбу России торжеством над жалким противником, личность которого не имела значения, сан которого, однако, оставался опасным до совершенного устранения его». Когда утром 29 июня войска подошли к Стрельне, Екатерина встретилась с вице‑канцлером князем A.M. Голицыным. Он передал ей письмо от Петра III, в котором тот просил у жены прощения за обиды и обещал исправиться. Отвечать на него императрица не стала, а Голицын принес ей присягу и присоединился к свите. В Петергофе посланник Петра передал императрице записку, в которой Петр обещал отказаться от престола в обмен на небольшую пенсию, голштинский трон и фрейлину Воронцову. В ответ Екатерина отправила своему супругу акт об отречении, который он должен был переписать и поставить свою подпись. Сановные фразы этого акта гласят: «За короткое время моего самодержавного правления я понял его тяжесть и груз, которые непосильны для меня .. Этим я торжественно объявляю без ненависти и без принуждения не только Российской империи, но и всему миру, что я отказываюсь от правления Российской империей до конца моих дней. Пока я жив, я не хочу править Российской империей ни как самодержец, ни в какой‑либо иной форме и никогда и ни с чьей помощью не буду этого добиваться. В этом я искренне и без лицемерия клянусь перед Богом и всем миром». К обеду Григорий Орлов привез из Ораниенбаума в Петергоф собственноручное отречение поверженного и униженного Петра III. Сам император был арестован и доставлен в поместье Ропша под надзор Алексея Орлова, капитана Петра Пассека и князя Федора Барятинского Предполагалось, что пленник поживет там несколько дней, пока ему не приготовят покои в Шлиссельбурге. Таким образом, переворот свершился, бедная немецкая принцесса София Августа Фредерика по прозвищу Фике превратилась в Ее Императорское Величество самодержицу Всероссийскую Екатерину Вторую! Екатерина ощущала в себе способности и желание править, ей казалось, что она сумеет прославить и себя и страну. «Счастье не так слепо, как его себе представляют, — скажет она позднее в своих „Записках“. — Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения». Полки вернулись в столицу. Воскресенье 30 июня стало днем всеобщего ликования и пьянства Народ, а особенно чувствовавшие себя героями дня солдаты‑гвардейцы не удовлетворились бесплатно выдававшейся с государственных складов водкой и разграбили несколько частных водочных лавок. Два года спустя императрице пришлось выплатить пострадавшим возмещение в размере 24 300 рублей. Вскоре Екатерина II выпустила следующий манифест: «На седьмой день после того как Мы взошли на всероссийский престол, Мы получили известие, что бывший император Петр III… заболел тяжелыми коликами. Памятуя о Нашем христианском долге и о священных заповедях, которые предписывают Нам заботу о жизни ближних, Мы сразу же приказали послать ему все, что… необходимо для скорейшей врачебной помощи Но к Нашему величайшему горю и сердечной скорби вчера вечером Мы получили известие, что он по воле Высочайшего Господа усоп». Современникам и в России, и за границей было тяжело поверить в правдивость этого рассказа Даже сын Екатерины, Павел считал, что она приказала убить его отца. После смерти императрицы он нашел в ее письменном столе сообщения Алексея Орлова, которые ее относительно оправдывают. Орлов писал 2 июля: «Матушка, милостивая государыня, здравствовать Вам мы все желаем несчетные годы. Мы теперь., благополучны Только наш очень занемог, и схватила его нечаянная колика, и я опасен, чтоб он сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаюсь, чтоб не ожил». И далее Орлов поясняет, в чем опасность выздоровления бывшего императора: «Первая опасность — для того, что он все вздор говорит, и нам это нисколько не весело. Другая опасность, что он действительно для нас всех опасен для того, что он иногда так отзывается, хотя в прежнее состояние быть». Второе письмо Орлова датировано 6 июля. «Матушка, милосердная императрица1 Как мне объяснить, описать, что произошло. Ты не поверишь своему верному рабу, но я скажу правду, как перед Богом… Матушка! Я готов к смерти, но сам не знаю, как произошло несчастье. Матушка! Его больше нет в живых… Он заспорил за столом с князем Барятинским; мы не смогли их разнять, и вот его уже не стало… Имей милость ко мне и ради моего брата.. Я света белого не хочу видеть Мы рассердили Тебя и навеки погубили наши души». Чтобы опровергнуть сразу же возникшее подозрение в отравлении, Екатерина приказала вскрыть тело Петра, но «не нашли ни малейшего следа отравления». Можно предположить, что недавно взошедшая на трон путем государственного переворота императрица прямо не требовала убить своего свергнутого супруга. Но ее окружение знало, что она «считала необходимым устранение Петра» (Бильбасов) Так что это убийство было для нее очень кстати, даже если она осознавала, что мировое общественное мнение будет подозревать ее в убийстве супруга Екатерина прилагала большие усилия, чтобы очиститься от этих подозрений, разыгрывала из себя не только глубоко удрученную, но и великодушную, и обратилась к своим «верным подданным» с «материнским словом», чтобы они «без неприязни простились с его прахом и посылали Господу благоговейные молитвы о спасении его души». Как ни странно, она выставила тело для всеобщего обозрения, хотя согласно многочисленным совпадающим свидетельствам лицо мертвого было совершенно черным, а шея до самых ушей закрыта шелковым шарфом Публично было объявлено, что бывший император скончался «от геморроидальных колик» В погребении убитого Екатерина не участвовала Для широкой публики это обосновывалось опасностью для ее здоровья. Панин по всей форме просил Сенат, чтобы он «в своей заботе о Ее величестве покорнейшим образом предложил ей» не участвовать в похоронах Сенат одобрил предложение Панина, а императрица его исполнила. Петр III был погребен в церкви Александро‑Невской лавры без надгробья и без надписи Никто из участников инцидента в Ропше не был наказан, наоборот, по прошествии некоторого времени Екатерина явила свое «кроткое милосердие» Братья Орловы получили графское звание Лейтенант Алексей Орлов был назначен секунд‑майором Преображенского гвардейского полка в чине генерал‑майора и получил от своей милостивой императрицы в подарок 800 душ. Екатерина достигла всего, чего желала, она обошла законного наследника — своего сына Павла — и без всяких законных оснований заняла престол.
|