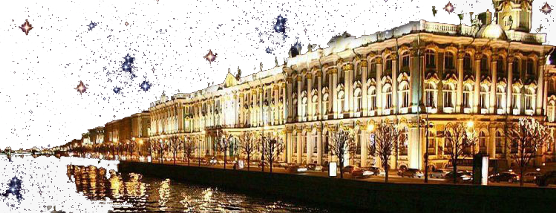МАТВЕЙ СЕМЕНОВИЧ БАШКИН И ЕГО СОУЧАСТНИКИ 

Направление, данное Нилом и Вассианом, не обошлось, однако, без того, чтобы не выработаться в учение, действительно противное православной церкви. Они ставили сущность выше формы, внутреннее выше внешнего, ополчались против злоупотреблений существующего порядка, возбуждали к мысли и к самобытному изучению основ веры и своей снисходительностью к еретикам, хотя даже, быть может, против собственной воли, требовали уважения к полной свободе мысли. Такое направление не могло остановиться на полдороге. Всегда и везде подобные зародыши несогласия с существующим порядком в области религии, порядком, освященным веками, открывали путь к дальнейшим попыткам критики, приводившим, наконец, к полному отпадению от авторитета, к тому, что на церковно-историческом языке называется ересью. Прежде чем в XVI веке образовалось протестантство, выражавшее явную борьбу с католической церковью и полное отпадение от последней, являлись один за другим ученые и благочестивые люди, недовольные как злоупотреблениями церкви, так и господством формы над содержанием в области религии, хотя эти люди всею глубиною души были преданы этой же католической церкви. Тот же путь должен был последовать и у нас, хотя в незначительной степени в сравнении с Западом. Уже "осифляне" старались набросить тень неправославия на самого Нила. Ученика его Вассиана и единомышленника Максима Грека они обвинили в ереси, хотя и неосновательно с нынешней точки зрения. Но с тех пор образовалось мнение, что в Ниловой пустыне и в других монастырях Белозерья гнездятся еретические мнения между старцами и оттуда распространяются по всей Руси. Возникло очень любопытное дело, объясняющее нам способ тогдашнего вольномыслия - это суд над сыном боярским Матвеем Семеновичем Башкиным и его соумышленниками. К большому сожалению, дело, производившееся об этом лице и его соумышленниках, не сохранилось вполне и известно только по отрывкам. Из них мы узнаем, что в Великий пост 1554 года Башкин явился к священнику Благовещенского собора, Симеону, на исповедь, объявил себя православным христианином, верующим в Св. Троицу и поклоняющимся иконам, но вместе с тем стал задавать такие вопросы, которые показались священнику "недоуменными": Симеона поразило то, что Башкин сам же начал разрешать перед ним вопросы, которых не мог разрешить священник. В заключение Матвей напомнил ему высокую обязанность духовного сана в таких словах: "Великое дело ваше, сказано в писании; ничто же сия любви больше, еже положити душу свою за други своя; вы за нас души свои полагаете и печетесь о душах наших и за нас будете отвечать в день судный". После этой исповеди Башкин приехал на дом к священнику, привез "Беседы Евангельские" и говорил: "Ради Бога, пользуй меня душевно, надобно читать написанное в Евангельских беседах, но на одно слово не надеяться, а совершать его делом. Все начало от вас, священники, вам следует показать собою пример и нас научать. Видишь ли, в Евангелии стоит: научитеся от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем; иго мое бо благо и бремя мое легко есть. Все это на вас лежит". После того Башкин пригласил к себе священника на дом и показал ему Апостол, измеченный восковыми пятнами по тем текстам, которые возбуждали в нем размышления. Симеон становился в тупик; Башкин сам ему предлагал собственные объяснения, которые казались Симеону подозрительными. Между прочим Башкин сказал: "Написано: весь закон заключается в словах - возлюби искреннего своего, как сам себя; если вы себя грызете и терзаете, то смотрите, чтобы вы не съели друг друга. Вот, мы Христовых рабов держим у себя рабами, а Христос всех называет братиею; а у нас на иных кабалы нарядные (фальшивые), на иных полные, а другие беглых держат. Благодарю Бога моего, у меня были кабалы полные, да я их всех изодрал, держу людей у себя добровольно; кому хорошо у меня - пусть живет, а не нравится, пусть идет куда хочет; а вам, отцам, надобно посещать нас, мирян, почаще да научать нас, как самим жить и как людей у себя держать, чтобы их не томить". - "Я этого не знаю", - сказал Симеон. "Так спроси Сильвестра, - ответил Башкин, - он тебе скажет, а ты пользуй этим душу мою. Я сам знаю: тебе некогда об этом думать, ты в суете мирской и день и ночь покоя не знаешь".
Симеон передал об этом Сильвестру: "Пришел, - говорил он, - ко мне духовный сын необычный, спрашивает у меня недоуменное, да сам меня и учит; а мне показалось это развратно". - "Не знаю, какой это духовный сын, - отвечал Сильвестр, - только про него нехорошо говорят".
Через несколько времени разнесся между духовными слух, что около Башкина собирается кружок людей, которые неправильно умствуют о существе Сына Божия, о таинствах, о церкви, о всей православной вере. Царя в то время не было в Москве. Он ездил в Кирилловский монастырь. Когда он воротился, то ему донесли, что "прозябе ересь и явися шатание в людях".
У Башкина вытребовали Апостол, измеченный восковыми пятнами: сам Башкин, уверенный в правоте своих толкований, подал его Симеону. Царь рассматривал книгу, но, как видно, в ней не было еще явных улик. Башкина не трогали. Он продолжал сходиться со своими приятелями и толковать о религиозных предметах. Духовные узнали об этом и требовали преследования Башкина и его друзей, говорили, что все это выходит из Белозерских монастырей, которые сделались гнездом всякого еретичества. Башкина взяли под стражу с двумя братьями Борисовыми: Григорием и Иваном Тимофеевичами и захватили еще двух лиц, по имени Тимофей и Фома. На все вопросы они отвечали, что они православные христиане. Царь приказал поместить их в подклети своих палат. Решили созвать собор. Собор состоялся под председательством митрополита Макария 1. Подсудимых обличали в том, что они признавали Иисуса Христа неравным Отцу, называли тело и кровь Господню простым хлебом и простым вином, отрицали святую соборную и апостольскую церковь, выражаясь, что церковь есть только собрание верных, а созданная ничего не значит: отвергали поклонение иконам, называя их идолами; отрицали силу покаяния, выражаясь так: как перестанет грех творить, так хоть у священника не покается, так не будет ему греха; считали церковные предания и жития святых баснословием: отзывались с пренебрежением о постановлениях семи соборов, говоря: это все они для своих выгод написали; наконец и в самом Священном Писании видели баснословие, излагали Евангелие и Апостол так, как бы эти книги содержали истину в неправде.
До нас не дошли ответы Башкина и его соумышленников, а из соборной грамоты того времени видно, что с Башкиным сделалось на соборе какое-то расстройство или припадок, что он говорил какую-то бессмыслицу, что ему потом представлялся голос Богородицы, и он в испуге во всем сознался и открыл своих единомышленников. За неимением подлинных ответов подсудимого, мы не можем сделать об этом никакого заключения.
Собор признал его виновным. Дальнейшая его участь неизвестна; соумышленников его сослали по монастырям на вечное заточение, "посудиша их неисходно им быти".
К делу Башкина привлечен был троицкий игумен Артемий. Об этом человеке мы знаем то, что он был родом из Пскова, избран в игумены Троицкого монастыря, приобрел там общую любовь, но вскоре на него пало подозрение в вольнодумстве. Он снял с себя игуменство и удалился в Нилову пустынь вместе с другом своим Порфирием. Когда началось дело Башкина, их обоих вызвали оттуда, как будто за тем, чтобы присутствовать на соборе, а на самом деле за тем, что считали их подозрительными. Еще Башкин, как видно, не сознавался, а Артемия побуждали спорить с ним и обличать его. Артемий уклонялся от спора и говорил: "Это не мое дело". Но когда Башкин пришел в расстройство и начал оговаривать и себя, и других, Артемий ушел из Москвы в свою пустыню, но был возвращен и предан соборному суду. Ему ставили в вину эту самовольную отлучку. Он сказал, что убежал от "наветующих на него", но не хотел указывать, кто эти наветующие. По-видимому, Артемий не признавал Башкина еретиком и говорил только, что Матвей делает ребячество. "Меня, - говорил oн, - призвали судить еретиков, а еретиков нет". - "Как же Матвей не еретик, - сказал митрополит, - когда он написал молитву единому началу, Богу Отцу, а Сына и Святого Духа отставил?"
"Нечего ему и врать, сказал Артемий, - такая молитва готова, молитва Манассии к Вседержителю".
"То было до Христова пришествия, - отвечали ему, - а теперь кто напишет молитву к единому началу, тот еретик. Ты виноват, кайся".
"Мне нечего каяться, я верую в единосущную Троицу", - сказал Артемий.
Эти ответы Артемия поставили ему в обвинение. Затем явился доносчик на Артемия, игумен Ферапонтова монастыря, Нектарий, который обвинял Артемия в том, что он в постные дни ел рыбу.
"Я ел рыбу, - отвечал Артемий, - когда мне приходилось быть у христолюбцев, и у царя ел за столом рыбу".
"Это ты чинил не гораздо, - сказал митрополит от лица собора, - это тебе вина: значит, ты сам вопреки божественных уставов и священных правил разрешаешь себе пост, а на тебя смотря, и люди соблазняются".
"Артемий, - продолжал Нектарий, - ездил из Псково-Печер-ского монастыря в немецкий Новый Городок, говорил там с немецким князем и хвалил там немецкую веру".
"Я спрашивал, - отвечал Артемий, - не найдется ли у немцев человека, кто бы поговорил со мною книгами. Хотелось мне узнать: у них христианский закон такой ли, как у нас; но мне не указали тогда такого книжного человека".
"А зачем тебе его? - сказали на соборе. - Сам ведаешь, что наша вера греческого закона сущая православная вера, а латинская вера Св. отцами отречена и проклятию предана. Это ты чинил не гораздо, это тебе вина".
Нектарий обвинял Артемия еще в разных богохульствах и ссылался на старцев Ниловой пустыни; но старцы, призванные на собор, не подтвердили доноса Нектария.
Другой обвинитель, троицкий игумен Иона, поднялся на Артемия. "Артемий, - показывал он, - произносил такие слова: нет в том ничего, что не положишь на себя крестное знамение. Прежде клали на челе иное знамение, а нынче большие кресты кладут; на соборе о крестном знамении много толковали, да ни на чем не порешили".
Артемий отвечал: "Я только говорил о соборе, что на нем ничем не порешили о крестном знамении, а про самое крестное знамение так не говорил".
Собор дал такой приговор: "Ты сам сознаешься, что говорил о соборе; стало быть, и то говорил, что в крестном знамении нет ничего; надобно верить Ионе. Это тебе вина".
Третий обвинитель, троицкий келарь Адриан Ангелов, доносил следующее:
"Артемий в Корнилиевом монастыре говорил: нет помощи умершим, когда по ним поют панихиду и служат обедню; тем они муки не минуют на том свете".
"Я говорил, - объяснял Артемий, - что если люди жили растленным житием и грабили других, а потом после их смерти, хоть и станут петь за них панихиду и служить обедню, Бог не принимает за них приношения; нет пользы от того: тем им не избавиться от муки". Артемию на соборе объявили так:
"Это ты говорил не гораздо; значит, ты отсекал у грешников надежду спасения и уподобился Арию. Надобно верить во всем Адриану. Это тебе вина".
Четвертый обвинитель, троицкий старец Игнатий Курачев, доносил: "Артемий говорил про Иисусов канон: такой Иисусе; и про акафист Богородице говорил: радуйся! да радуйся!"
Артемий сказал: "Я говорил так: в каноне читают: Иисусе сладчайший! А как услышал слово Иисусово и о его заповедях, как Иисус велел пребывать и как житие вести, так горько делается заповеди Иисусовы исполнять; а про акафист я так говорил: читают: радуйся да радуйся, Чистая! А сами не радят о чистоте и пребывают в празднословии; стало быть, только наружно обычай исполняют, а не истинно".
"Это ты говорил не гораздо, - произнесли на соборе, - ты про Иисусов канон и акафист говорил развратно и хульно; всякому христианину подобает Иисусов канон и акафист Пречистой Богородицы держать честно и молиться всякий день, сколько силы достанет".
Пятый обвинитель, кирилловский игумен Симеон, объявил: "Когда Матвея Башкина поймали в ереси, Артемий был в Кирилловском монастыре; я ему сказал о том, а он мне отвечал: "Не знаю, что это за ереси; вот сожгли Курицына и Рукавого, а до сих пор сами не знают, за что и сожгли"".
"Не могу вспомнить, - отвечал Артемий, - был ли разговор о новгородских еретиках; не на моей памяти сожгли их; и точно я не знаю, за что их сожгли. Может быть, я так и сказал, но я не говорил, что другие этого не знали, а говорил только про себя одного".
С Артемия сняли сан и приговорили сослать на тяжелое заключение в Соловецкий монастырь. Он должен был жить одиноко и безвыходно в келье, не иметь ни с кем сообщения и ни с кем не переписываться. Ему позволяли причаститься Св. Тайн только в случае смертельной болезни. Но Артемий недолго пробыл в Соловках, убежал оттуда и очутился в Литве. Там он ратовал за православие и писал опровержения против еретика Симона Будного 2, отвергавшего божество Иисуса Христа: это оправдывает отзыв о нем князя Курбского, называющего Артемия "мудрым и честным мужем", жертвой лукавства злых и любостяжательных монахов, оклеветавших его из зависти за то, что царь любил Артемия и слушал его советы.
Вместе с Артемием приговорен был монах Савва Шах, человек ученый, и сослан в Суздаль.
К делу Башкина и Артемия привлечены были: архимандрит суздальского Спасо-Евфимьева монастыря Феодорит и дьяк Иван Висковатый. Первый прославился обращением в христианскую веру лопарей, жил некогда в белозерских пустынях и был давний приятель Артемия, по ходатайству которого получил сан архимандрита в Суздале. Он был человек строгой жизни и обличал монашеские пороки. За это монахи не терпели его, в особенности злобствовал на Феодорита суздальский владыка, потому что Феодорит обличал его в сребролюбии и пьянстве. Хотя Феодорит ни в чем не был уличен, но тем не менее, как согласник и товарищ Артемия, был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, где ему делали всякие поругания приятели суздальского владыки, бывшего прежде кирилло-белозерским игуменом. Через полтора года, по ходатайству бояр, Феодорит был освобожден. Дьяк Висковатый подпал суду в том же деле, но совсем по иному вопросу. Он изъявлял разные сомнения по поводу приемов тогдашнего иконописания, между прочим, соблазнялся тем, что Христа изображали в ангельском образе с крыльями, что писали образ Бога Отца, тогда как, по его мнению, не следовало вовсе изображать невидимого Божества, как равно и бесплотных сил; не одобрял также человековидных изображений добродетелей и пороков. Его осудили на трехлетнее церковное покаяние. Это обвинение замечательно особенно тем, что в нем видна злоба духовенства, хотевшего запретить мирянам свободное суждение о предметах религии. "Вам, - сказал Висковатому митрополит, - не велено о божестве и божьих делах испытывать. Знай свои дела, которые на тебя положены. Не разроняй своих списков" (дьяческих дел). В соборном приговоре о Висковатом сказано: "Всякий человек должен ведать свой чин; когда ты овца, не твори из себя пастыря. Когда ты нога, не воображай, что ты голова, но повинуйся установленному от Бога чину; отверзай свои уши на слушание благодатных учительских словес".
Во время производства этого дела или, быть может, тотчас по окончании его, привезен был в Москву из белозерских монастырей монах Феодосий Косой с несколькими товарищами, также обвиняемыми в еретических мнениях. Их посадили под стражу в одном из московских монастырей; но Косой склонил на свою сторону стражей и бежал вместе со своими товарищами. Он нашел себе убежище в Литве, женился на еврейке и проповедывал ересь с большим успехом, тем более, что в литовско-русских владениях распространялись тогда с Запада так называемые арианские мнения. Об этом еретике мы знаем из сочинения отенского монаха Зиновия (Отен - монастырь в 50 верстах от Новгорода), под названием "Истины Показание". Автор представляет, что к нему приходят три последователя ереси Косого и излагают учение своего наставника, а Зиновий опровергает их. Из этого сочинения мы узнаем, что Косой был раб, убежавший от своего господина на господском коне и захвативший с собой одежду и еще кое-какие вещи. Последователи его доказывали, что это было не воровство, а напротив, вознаграждение, которое следовало бежавшему за его службу господину. Феодосий постригся в одном из монастырей Белозерья и своим умом приобрел к себе такое уважение, что даже прежний господин, узнавши о нем, относился к нему с приязнью. По известиям, передаваемым книгой Зиновия, Феодосий отвергал Св. Троицу, божество Иисуса Христа, считая его только богоугодным человеком, посланником свыше. "Вы толкуете, - говорил Косой, - что Бог создал рукой своей Адама, а обновить и исправить создание свое пришел Сын Божий и воплотился. Зачем ему приходить в плоть: если Всемогущий Бог создал все своим словом, то словом же мог обновить свой образ и подобие и без вочеловечения. Никакого обветшания и падения образа и подобия Божьего в человеке не было. Человек создан смертным, как и все другие животные - рыбы, гады, птицы, звери. Как до пришествия Христова, так и после пришествия человек все был одним человеком, так же рождался, пользовался здоровьем, подвергался недугам, умирал и истлевал". Косой называл иконы идолами и подводил к ним разные изречения Ветхого Завета, направленные против богослужения, вооружался против поклонения мощам, и по этому поводу указывал на Антония Великого, который порицал египетский обычай сохранять тела мертвых. Монастыри он называл человеческим изобретением и указывал, что ни в Евангелии, ни в апостольских сочинениях нет о них ни слова. "Плотское мудрование, - говорил он, - господствует у ваших игуменов, митрополитов, епископов. Они повелевают не есть мяса, вопреки словам Христа: не входящее во уста сквернит человека. Они запрещают жениться, прямо против слов Апостола, который заранее называл "сожженными совестью" тех, которые будут возбранять жениться и удаляться от разной пищи. Они знают только пение да каноны, чего в Евангелии не показано творить, а отвергают любовь христианскую; нет у них духа кротости; они не дают узнать нам истину, гонят нас, запирают в тюрьмы. В Евангелии не велено мучить даже и неправых. Господь сам указал это в своей притче о плевелах, а они нас гонят за истину".
В Литве Феодосий и его соучастники успешно распространяли свою ересь. Конец Феодосия неизвестен.
Направление, данное Нилом и Вассианом, не обошлось, однако, без того, чтобы не выработаться в учение, действительно противное православной церкви. Они ставили сущность выше формы, внутреннее выше внешнего, ополчались против злоупотреблений существующего порядка, возбуждали к мысли и к самобытному изучению основ веры и своей снисходительностью к еретикам, хотя даже, быть может, против собственной воли, требовали уважения к полной свободе мысли. Такое направление не могло остановиться на полдороге. Всегда и везде подобные зародыши несогласия с существующим порядком в области религии, порядком, освященным веками, открывали путь к дальнейшим попыткам критики, приводившим, наконец, к полному отпадению от авторитета, к тому, что на церковно-историческом языке называется ересью. Прежде чем в XVI веке образовалось протестантство, выражавшее явную борьбу с католической церковью и полное отпадение от последней, являлись один за другим ученые и благочестивые люди, недовольные как злоупотреблениями церкви, так и господством формы над содержанием в области религии, хотя эти люди всею глубиною души были преданы этой же католической церкви. Тот же путь должен был последовать и у нас, хотя в незначительной степени в сравнении с Западом. Уже "осифляне" старались набросить тень неправославия на самого Нила. Ученика его Вассиана и единомышленника Максима Грека они обвинили в ереси, хотя и неосновательно с нынешней точки зрения. Но с тех пор образовалось мнение, что в Ниловой пустыне и в других монастырях Белозерья гнездятся еретические мнения между старцами и оттуда распространяются по всей Руси. Возникло очень любопытное дело, объясняющее нам способ тогдашнего вольномыслия - это суд над сыном боярским Матвеем Семеновичем Башкиным и его соумышленниками. К большому сожалению, дело, производившееся об этом лице и его соумышленниках, не сохранилось вполне и известно только по отрывкам. Из них мы узнаем, что в Великий пост 1554 года Башкин явился к священнику Благовещенского собора, Симеону, на исповедь, объявил себя православным христианином, верующим в Св. Троицу и поклоняющимся иконам, но вместе с тем стал задавать такие вопросы, которые показались священнику "недоуменными": Симеона поразило то, что Башкин сам же начал разрешать перед ним вопросы, которых не мог разрешить священник. В заключение Матвей напомнил ему высокую обязанность духовного сана в таких словах: "Великое дело ваше, сказано в писании; ничто же сия любви больше, еже положити душу свою за други своя; вы за нас души свои полагаете и печетесь о душах наших и за нас будете отвечать в день судный". После этой исповеди Башкин приехал на дом к священнику, привез "Беседы Евангельские" и говорил: "Ради Бога, пользуй меня душевно, надобно читать написанное в Евангельских беседах, но на одно слово не надеяться, а совершать его делом. Все начало от вас, священники, вам следует показать собою пример и нас научать. Видишь ли, в Евангелии стоит: научитеся от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем; иго мое бо благо и бремя мое легко есть. Все это на вас лежит". После того Башкин пригласил к себе священника на дом и показал ему Апостол, измеченный восковыми пятнами по тем текстам, которые возбуждали в нем размышления. Симеон становился в тупик; Башкин сам ему предлагал собственные объяснения, которые казались Симеону подозрительными. Между прочим Башкин сказал: "Написано: весь закон заключается в словах - возлюби искреннего своего, как сам себя; если вы себя грызете и терзаете, то смотрите, чтобы вы не съели друг друга. Вот, мы Христовых рабов держим у себя рабами, а Христос всех называет братиею; а у нас на иных кабалы нарядные (фальшивые), на иных полные, а другие беглых держат. Благодарю Бога моего, у меня были кабалы полные, да я их всех изодрал, держу людей у себя добровольно; кому хорошо у меня - пусть живет, а не нравится, пусть идет куда хочет; а вам, отцам, надобно посещать нас, мирян, почаще да научать нас, как самим жить и как людей у себя держать, чтобы их не томить". - "Я этого не знаю", - сказал Симеон. "Так спроси Сильвестра, - ответил Башкин, - он тебе скажет, а ты пользуй этим душу мою. Я сам знаю: тебе некогда об этом думать, ты в суете мирской и день и ночь покоя не знаешь".
Симеон передал об этом Сильвестру: "Пришел, - говорил он, - ко мне духовный сын необычный, спрашивает у меня недоуменное, да сам меня и учит; а мне показалось это развратно". - "Не знаю, какой это духовный сын, - отвечал Сильвестр, - только про него нехорошо говорят".
Через несколько времени разнесся между духовными слух, что около Башкина собирается кружок людей, которые неправильно умствуют о существе Сына Божия, о таинствах, о церкви, о всей православной вере. Царя в то время не было в Москве. Он ездил в Кирилловский монастырь. Когда он воротился, то ему донесли, что "прозябе ересь и явися шатание в людях".
У Башкина вытребовали Апостол, измеченный восковыми пятнами: сам Башкин, уверенный в правоте своих толкований, подал его Симеону. Царь рассматривал книгу, но, как видно, в ней не было еще явных улик. Башкина не трогали. Он продолжал сходиться со своими приятелями и толковать о религиозных предметах. Духовные узнали об этом и требовали преследования Башкина и его друзей, говорили, что все это выходит из Белозерских монастырей, которые сделались гнездом всякого еретичества. Башкина взяли под стражу с двумя братьями Борисовыми: Григорием и Иваном Тимофеевичами и захватили еще двух лиц, по имени Тимофей и Фома. На все вопросы они отвечали, что они православные христиане. Царь приказал поместить их в подклети своих палат. Решили созвать собор. Собор состоялся под председательством митрополита Макария 3. Подсудимых обличали в том, что они признавали Иисуса Христа неравным Отцу, называли тело и кровь Господню простым хлебом и простым вином, отрицали святую соборную и апостольскую церковь, выражаясь, что церковь есть только собрание верных, а созданная ничего не значит: отвергали поклонение иконам, называя их идолами; отрицали силу покаяния, выражаясь так: как перестанет грех творить, так хоть у священника не покается, так не будет ему греха; считали церковные предания и жития святых баснословием: отзывались с пренебрежением о постановлениях семи соборов, говоря: это все они для своих выгод написали; наконец и в самом Священном Писании видели баснословие, излагали Евангелие и Апостол так, как бы эти книги содержали истину в неправде.
До нас не дошли ответы Башкина и его соумышленников, а из соборной грамоты того времени видно, что с Башкиным сделалось на соборе какое-то расстройство или припадок, что он говорил какую-то бессмыслицу, что ему потом представлялся голос Богородицы, и он в испуге во всем сознался и открыл своих единомышленников. За неимением подлинных ответов подсудимого, мы не можем сделать об этом никакого заключения.
Собор признал его виновным. Дальнейшая его участь неизвестна; соумышленников его сослали по монастырям на вечное заточение, "посудиша их неисходно им быти".
К делу Башкина привлечен был троицкий игумен Артемий. Об этом человеке мы знаем то, что он был родом из Пскова, избран в игумены Троицкого монастыря, приобрел там общую любовь, но вскоре на него пало подозрение в вольнодумстве. Он снял с себя игуменство и удалился в Нилову пустынь вместе с другом своим Порфирием. Когда началось дело Башкина, их обоих вызвали оттуда, как будто за тем, чтобы присутствовать на соборе, а на самом деле за тем, что считали их подозрительными. Еще Башкин, как видно, не сознавался, а Артемия побуждали спорить с ним и обличать его. Артемий уклонялся от спора и говорил: "Это не мое дело". Но когда Башкин пришел в расстройство и начал оговаривать и себя, и других, Артемий ушел из Москвы в свою пустыню, но был возвращен и предан соборному суду. Ему ставили в вину эту самовольную отлучку. Он сказал, что убежал от "наветующих на него", но не хотел указывать, кто эти наветующие. По-видимому, Артемий не признавал Башкина еретиком и говорил только, что Матвей делает ребячество. "Меня, - говорил oн, - призвали судить еретиков, а еретиков нет". - "Как же Матвей не еретик, - сказал митрополит, - когда он написал молитву единому началу, Богу Отцу, а Сына и Святого Духа отставил?"
"Нечего ему и врать, сказал Артемий, - такая молитва готова, молитва Манассии к Вседержителю".
"То было до Христова пришествия, - отвечали ему, - а теперь кто напишет молитву к единому началу, тот еретик. Ты виноват, кайся".
"Мне нечего каяться, я верую в единосущную Троицу", - сказал Артемий.
Эти ответы Артемия поставили ему в обвинение. Затем явился доносчик на Артемия, игумен Ферапонтова монастыря, Нектарий, который обвинял Артемия в том, что он в постные дни ел рыбу.
"Я ел рыбу, - отвечал Артемий, - когда мне приходилось быть у христолюбцев, и у царя ел за столом рыбу".
"Это ты чинил не гораздо, - сказал митрополит от лица собора, - это тебе вина: значит, ты сам вопреки божественных уставов и священных правил разрешаешь себе пост, а на тебя смотря, и люди соблазняются".
"Артемий, - продолжал Нектарий, - ездил из Псково-Печер-ского монастыря в немецкий Новый Городок, говорил там с немецким князем и хвалил там немецкую веру".
"Я спрашивал, - отвечал Артемий, - не найдется ли у немцев человека, кто бы поговорил со мною книгами. Хотелось мне узнать: у них христианский закон такой ли, как у нас; но мне не указали тогда такого книжного человека".
"А зачем тебе его? - сказали на соборе. - Сам ведаешь, что наша вера греческого закона сущая православная вера, а латинская вера Св. отцами отречена и проклятию предана. Это ты чинил не гораздо, это тебе вина".
Нектарий обвинял Артемия еще в разных богохульствах и ссылался на старцев Ниловой пустыни; но старцы, призванные на собор, не подтвердили доноса Нектария.
Другой обвинитель, троицкий игумен Иона, поднялся на Артемия. "Артемий, - показывал он, - произносил такие слова: нет в том ничего, что не положишь на себя крестное знамение. Прежде клали на челе иное знамение, а нынче большие кресты кладут; на соборе о крестном знамении много толковали, да ни на чем не порешили".
Артемий отвечал: "Я только говорил о соборе, что на нем ничем не порешили о крестном знамении, а про самое крестное знамение так не говорил".
Собор дал такой приговор: "Ты сам сознаешься, что говорил о соборе; стало быть, и то говорил, что в крестном знамении нет ничего; надобно верить Ионе. Это тебе вина".
Третий обвинитель, троицкий келарь Адриан Ангелов, доносил следующее:
"Артемий в Корнилиевом монастыре говорил: нет помощи умершим, когда по ним поют панихиду и служат обедню; тем они муки не минуют на том свете".
"Я говорил, - объяснял Артемий, - что если люди жили растленным житием и грабили других, а потом после их смерти, хоть и станут петь за них панихиду и служить обедню, Бог не принимает за них приношения; нет пользы от того: тем им не избавиться от муки". Артемию на соборе объявили так:
"Это ты говорил не гораздо; значит, ты отсекал у грешников надежду спасения и уподобился Арию. Надобно верить во всем Адриану. Это тебе вина".
Четвертый обвинитель, троицкий старец Игнатий Курачев, доносил: "Артемий говорил про Иисусов канон: такой Иисусе; и про акафист Богородице говорил: радуйся! да радуйся!"
Артемий сказал: "Я говорил так: в каноне читают: Иисусе сладчайший! А как услышал слово Иисусово и о его заповедях, как Иисус велел пребывать и как житие вести, так горько делается заповеди Иисусовы исполнять; а про акафист я так говорил: читают: радуйся да радуйся, Чистая! А сами не радят о чистоте и пребывают в празднословии; стало быть, только наружно обычай исполняют, а не истинно".
"Это ты говорил не гораздо, - произнесли на соборе, - ты про Иисусов канон и акафист говорил развратно и хульно; всякому христианину подобает Иисусов канон и акафист Пречистой Богородицы держать честно и молиться всякий день, сколько силы достанет".
Пятый обвинитель, кирилловский игумен Симеон, объявил: "Когда Матвея Башкина поймали в ереси, Артемий был в Кирилловском монастыре; я ему сказал о том, а он мне отвечал: "Не знаю, что это за ереси; вот сожгли Курицына и Рукавого, а до сих пор сами не знают, за что и сожгли"".
"Не могу вспомнить, - отвечал Артемий, - был ли разговор о новгородских еретиках; не на моей памяти сожгли их; и точно я не знаю, за что их сожгли. Может быть, я так и сказал, но я не говорил, что другие этого не знали, а говорил только про себя одного".
С Артемия сняли сан и приговорили сослать на тяжелое заключение в Соловецкий монастырь. Он должен был жить одиноко и безвыходно в келье, не иметь ни с кем сообщения и ни с кем не переписываться. Ему позволяли причаститься Св. Тайн только в случае смертельной болезни. Но Артемий недолго пробыл в Соловках, убежал оттуда и очутился в Литве. Там он ратовал за православие и писал опровержения против еретика Симона Будного 4, отвергавшего божество Иисуса Христа: это оправдывает отзыв о нем князя Курбского, называющего Артемия "мудрым и честным мужем", жертвой лукавства злых и любостяжательных монахов, оклеветавших его из зависти за то, что царь любил Артемия и слушал его советы.
Вместе с Артемием приговорен был монах Савва Шах, человек ученый, и сослан в Суздаль.
К делу Башкина и Артемия привлечены были: архимандрит суздальского Спасо-Евфимьева монастыря Феодорит и дьяк Иван Висковатый. Первый прославился обращением в христианскую веру лопарей, жил некогда в белозерских пустынях и был давний приятель Артемия, по ходатайству которого получил сан архимандрита в Суздале. Он был человек строгой жизни и обличал монашеские пороки. За это монахи не терпели его, в особенности злобствовал на Феодорита суздальский владыка, потому что Феодорит обличал его в сребролюбии и пьянстве. Хотя Феодорит ни в чем не был уличен, но тем не менее… Продолжение »