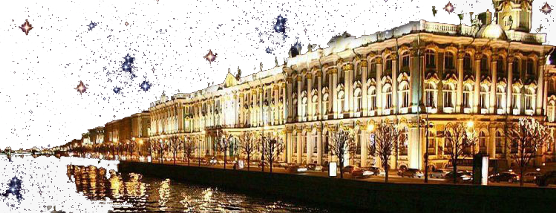МАКСИМ ГРЕК 

С судьбою Вассиана Патрикеева связана судьба другого лица, не русского по происхождению, но знаменитого в истории умственной деятельности древней Руси, лица, известного под именем Максима Грека.
Вольнодумство, задевавшее то с той, то с другой стороны непоколебимость церковного предания и так напугавшее благочестивую Русь жидовствующею ересью, вызывало со стороны православия потребность противодействия путем рассуждения и словесных состязаний. Сожжения и пытки не искореняли еретического духа. Еретики делались только осторожнее и совращали русских людей втайне: им было это тем удобнее, что они сами были лучшими книжниками и говорунами, чем те, которые хотели бы с ними вести споры. Ревнителям православия предстояло обличать еретические мнения, указывать их неправильность, защищать истину вселенской церкви, но для этого необходимы были знания, нужна была наука. На Руси был недостаток как в людях, так и в книгах. Глубокое невежество тяготило русский ум уже много веков. Остатки прежней литературы, которыми могли руководствоваться книжники и грамотеи, пострадали от невежественных переписчиков, от умышленных исказителей, а иногда переводы сами по себе носили признаки неправильности. Многое важное не находилось в распоряжении у благочестивых книжников на славянском языке: оно оставалось только на греческом, для них недоступном. Уже они чувствовали, что одной обрядности мало для благочестия и благоустройства церкви; нужно было учение, но где взять ученых? Не на Западе же было искать их: Запад давно разошелся с христианским Востоком. Русь могла только пытаться идти по своей давней стезе, протоптанной Св. Владимиром и его потомками - обратиться к Греции, которая, лишившись самобытности, была почти в таком же состоянии невежества, как и Русь, с той разницей, что греки, при всей неприязни к Западу, ездили туда учиться, а потому между ними можно было найти ученых людей, которых на Руси напрасно было искать.
В этих видах, конечно, по совету книжников, Василий Иванович отправил посольство на Афон, к которому русские еще со времен Антония печерского питали благоговение и где уже в XII веке был русский монастырь. В Москве узнали, что в афонском Ватопедском монастыре есть искусный книжник Савва, и приглашали его прибыть в Москву, для переводов и, главным образом, для перевода Толковой Псалтыри, т. е. сборника объяснений и примечаний к псалмам Давида, составленных разными древними отцами церкви. Такой перевод казался тогда необходимостью первой важности. Псалтырь была издавна любимою книгою русских грамотеев, но смысл ее был во многих местах непонятен, и это давало повод к разгулу фантазии, завлекавшей читателей в еретические заблуждения. Знакомые того времени русским книжным людям толкования были недостаточны. Надобно было доставить благочестивым читателям такое сочинение, которое помогало бы им понимать любимую часть священного писания, согласно с древним учением церкви. Кроме этой причины, великий князь нуждался в ученом греке для разбора греческих книг в своей библиотеке. В старину на Руси было довольно людей, знакомых с греческим языком, не только между духовными, но и между князьями. Поэтому греческие книги не были редкостью. В период татарского порабощения оскудело всякого рода знание: рукописи греческие, как и славянские, исчезали в разных местах от разных печальных обстоятельств. В Москве погибла книгохранительница во время нашествия Тохтамыша, но Москва забирала себе сокровища других русских земель, и потому неудивительно, если великокняжеская книгохранительница опять наполнилась; быть может, и приехавшие с Софией греки привезли с собой кое-что из образцов своей старой литературы.
Инок Савва не поехал в Москву, одолеваемый старостью: афонский игумен предложил московскому государю другого ученого грека, по имени Максим, из той же Ватопедской обители. Этот монах по-славянски не знал, но при своей способности к языкам мог скоро выучиться. С ним вместе отправились монах Неофит и Лаврентий болгарин. Они примкнули к другим духовным, которые ехали в Москву за милостынею, и, пробывши несколько времени, по неизвестной нам причине, в Крыму, прибыли в Москву в 1518 году.
Максим был родом из албанского города Арты, сын знатных родителей эллинского происхождения по имени Эммануил и Ирина. В молодости он отправился учиться в Италию, пробыл там более десяти лет, учился во Флоренции и Венеции, слушал знаменитого филолога, своего соотечественника Ласкариса, был близок со многими учеными и в том числе с Альдом Мануччи, типографом и издателем древних классиков, который образовал около себя кружок ученых и образованных людей. Молодой грек увлекался на первых порах тогдашним просвещением, но впоследствии начал к нему охладевать. Оно не могло наполнить его честной, сердечной натуры, склонной к идеализму и с младенчества пропитанной духом отечественного православия. Европа тогда искала для себя обновления в просвещении антического мира. Все, что только интересовалось умственною деятельностью, устремлялось к изучению этого мира и прилеплялось к нему всею душою; но увлечение классическою древностью скоро дошло до сумасбродства, особенно в Италии. В древнем мире видели идеал совершенства общественных отношений, науки, искусства, нравственности. Христианская религия потеряла свою цену. Почитание святых уступало место богам Греции и Рима; языческие философы стали выше отцов церкви; распространилось легкомысленное модное неверие и кощунство; знатные и образованные люди, не только светские, но и духовные, подобно древним римским философам, считали религию только пригодною для черни, которую, ради выгод, следует держать в заблуждении. Из подражания древнему образу жизни стали предаваться грязному разврату; эгоизм, бессердечие к ближнему - самые неудержимые пороки и злодеяния находили для себя оправдание в примерах из классических писателей. Ко всему этому присмотрелся Максим в Италии и возненавидел от всей души такое направление просвещения. Умственные успехи Италии не выкупали для него зловредного влияния древности на общественную нравственность. Искусство, при всем совершенстве техники, служило чувственности и снабжало самые церкви соблазнительными картинами. Философия приводила только к диалектике, доставлявшей умение сделать из черного белое, из белого черное; наука, мало опираясь на положительных знаниях природы, при всем вольномыслии в отношении религии, не отрешалась от грубейших суеверий; астрология со всеми своими нелепостями, облеченная в научную форму, была самою модною наукою века и возбуждала к себе веру и уважение ученых людей того времени. Понятно, что вся сфера тогдашней образованности стала наконец душною и смрадною для Максима, и он бежал от нее, подобно тому, как лучше люди последних веков Рима убегали от образованности своего времени под сень гонимого и презираемого христианства.
Максим воротился на родину, но, вероятно, увидел, что со всем тем запасом знаний, который он принес с собою из чужого края, нечего было делать в порабощенном отечестве, где, по его словам, наука была доведена до последнего издыхания. В Италии он не ужился с западным просвещением, потому что не вынес безнравственности и лживости; не сделался он папистом, потому что, зная греческую литературу, слишком был сведущ в истории церкви и смотрел на нее прямее, чем западные люди. Еще меньше мог он в Греции ужиться с поработителями своего племени и, в угоду им, утеснять своих собратий, как делали иные его соотечественники. Максим был, с одной стороны, слишком образован, с другой, слишком прямодушен, чтобы играть какую-нибудь роль в тогдашнем мирском обществе на своей родине. Он ушел в монастырь на Афон; он был очень религиозен и принадлежал к той церкви, которая давно уже ставила иночество высшим идеалом. Монашеский обет чистоты соответствовал его целомудренной душе: он ни за что не хотел допустить, подобно другим, чтобы род человеческий размножался обычным животным способом, если бы первая чета не подверглась грехопадению; подобие человека с остальными животными в этом отношении казалось ему унижающим человеческое достоинство.
Но Максим не сделался, однако, безусловным врагом просвещения и науки; он уважал знание. Вооружаясь против астрологии, он, однако, не смешивал ее с астрономическими изысканиями, со стремлением изведать течение небесных тел и уразуметь законы природы. Как ни возмущало его увлечение классической древностью, доводившее Италию до уродства, но все это не мешало ему ценить светлые стороны антического мира, ссылаться на греческих поэтов и философов. По примеру отцов церкви, он, уважая земную мудрость, хотел подчинить ее религии, выше всего ставил богословие: оно было для него внутреннею мудростью, а все прочие науки - внешнею.
Из своей жизни в Италии вынес он одно заветное воспоминание - воспоминание об Иерониме Савонароле. Среди всеобщего развращения нравов в Италии, в виду гнуснейшего лицемерия, господствовавшего во всей Западной церкви, управляемой папой Александром VI, чудовищем разврата и злодеяния, смелый и даровитый доминиканский монах Иероним Савонарола начал во Флоренции грозную проповедь против пороков своего века, во имя нравственности, Христовой любви и сострадания к униженным классам народа. Его слово раздавалось пять лет и оказало изумительное действие. Флорентийцы до такой степени прониклись его учением, что, отрекаясь от прежнего образа жизни, сносили предметы роскоши, соблазнительные картины, карты и т. п. в монастырь Св. Марка и сжигали перед глазами Савонаролы, жертвовали своим состоянием для облегчения участи неимущих братьев, налагали на себя обеты воздержания, милосердия и трудолюбия. Один разве пример библейского пророка Ионы в Ниневии мог сравниться с тем, что делалось тогда во Флоренции. Но обличения Иеронима вооружили против него сильных земли. Его обвинили в ереси, и в 1498 году он был сожжен по повелению папы Александра VI. Максим знал Иеронима лично, слушал его проповеди, и надолго остался напечатленным в душе Максима образ проповедника-обличителя, когда тот, в продолжение двух часов, стоя на кафедре, расточал свои поучения и не держал в руках книги для подтверждения истины своих слов, а руководствовался только обширною своею памятью и "богомудрым" разумом. "Если бы, - говорит Максим в одном из своих сочинений, - Иероним и пострадавшие с ним два мужа не были латыны верою, я бы с радостью сравнил их с древними защитниками благочестия. Это показывает, что хотя латыны и во многом соблазнились, но не до конца еще отпали от веры, надежды и любви..."
Иероним Савонарола как обличитель людских неправд остался на всю жизнь идеалом Максима: он везде готов был подражать ему, везде хотел говорить правду сильным, разоблачать лицемерие, поражать ханжество, заступаться за угнетенных и обиженных. С таким настроением духа прибыл он в Москву, где управлял государь, отличавшийся тем, что не терпел ни малейшего себе противоречия, где христианство для массы существовало только во внешних обрядах, где духовенство отличалось грубостью нравов, ревниво держалось за свои земные выгоды и не в состоянии было, при своем невежестве, ни учить народа, ни руководить его пользою.
Василий принял Максима и его товарищей очень радушно, и ничто, по-видимому, не могло лишить пришельцев надежды возвратиться в отечество, когда они исполнят свое поручение. Говорят, что Максим, увидавши великокняжескую библиотеку, удивился изобилию в ней рукописей и сказал, что такого богатства нет ни в Греции, ни в Италии, где латинский фанатизм истребил многие творения греческих богословов: быть может, в этих словах было несколько преувеличения, по свойственной грекам изысканной вежливости.
Максим приступил к делу перевода Толковой Псалтыри; так как он по-русски еще не знал, то ему дали в помощники двух образованных русских людей: один был знакомый нам толмач Димитрий Герасимов, другой - Власий, исправлявший прежде того дипломатические поручения. Оба знали по-латыни, и Максим переводил им с греческого на латинский, а они писали по-славянски. Для письма приставлены были к ним иноки Сергиевой Лавры: Силуан и Михаил Медоварцев. Через полтора года Максим окончил свой труд; кроме того, перевел несколько толкований на Деяния Апостольские и представил свою работу великому князю с посланием, в котором излагал свой взгляд и правила, которыми руководствовался. Затем он просил отпустить его на Афон вместе со своими спутниками. Василий Иванович отпустил спутников, пославши с ними и богатую милостыню на Афон, но Максима удержал для новых ученых трудов. Не так легко было иностранцу выбраться из Москвы, как въехать в нее, если этого иностранца считали полезным в московской земле или почему-либо опасным для нее по возвращении его домой.
С этих пор судьба Максима, против его воли, стала принадлежать русскому миру. Он продолжал заниматься переводами разных сочинений и составлял объяснения разных недоразумений, относившихся к смыслу священных книг и богослужебных обрядов; например, объяснял, что слова в конце Иоаннова Евангелия о невместимости в целом мире книг, в которых были бы подробно изложены деяния Иисуса Христа, следует понимать не буквально, а в смысле преувеличения; объяснял, что в ектенье о свышнем мире не следует понимать мира ангельского, но должно понимать мир в смысле спокойствия и т.п. Научившись достаточно по-русски, он принялся за исправление разных неправильностей, замеченных им в богослужебных книгах. Это уже было дело не безопасное, так как русские держались упорно буквы и противопоставляли Максиму такой довод: "Ты своим исправлением досаждаешь воссиявшим в нашей земле преподобным чудотворцам; они в таком виде священными книгами благоугодили Богу и прославились от Него святостью и чудотворением". - "Не я, - говорил им Максим, - а блаженный Павел научит вас: каждому дается явление Духа в пользу; тому слово премудрости, тому вера, тому дар исцеления, тому пророчество, действие сил, а тому языки; все же это дарует один и тот же Дух. Видите, не всякому даются все духовные дарования; святым чудотворцам русским, за их смиренномудрие, кротость и святую жизнь, дан дар исцелять, творить чудеса, но дара языков и сказания они не принимали свыше; иному же, как мне, хотя и грешен паче всех земнородных, дано разуметь языки и сказание (дар выражения), и потому не удивляйтесь, если я исправляю описки, которые утаились от них". Как возражение, так и ответ Максима знаменательны в нашей истории; здесь мы видим зародыш того громадного явления, взволновавшего русскую жизнь уже в XVII веке, которое называется расколом. И до сих пор у раскольников служит важнейшею опорою довод, приведенный противниками Максима, а равным образом и против них на разные лады повторяется ответ, данный Максимом своим противникам.
Но если не безопасно было для приезжего грека посягать на букву богослужебных книг, то гораздо опаснее сделалось для него то, что, выучившись русскому языку, он начал подражать своему старому идеалу, Савонароле, и разразился обилием обличений всякого рода, касавшихся и духовенства, и нравов, и верований, и обычаев, и, наконец, злоупотреблений власти в русской земле. Превратившись поневоле из грека в русского, Максим оставил по себе множество отдельных рассуждений и посланий, которые, за небольшим исключением, носят полемический и обличительный характер. О многих из его сочинений трудно решить: написаны ли они прежде или после опалы, постигшей Максима, тем более, что, подвергнутый заключению, он продолжал писать свои обличения и в числе других причин был позван вторично на суд и за это. Некоторые его полемические сочинения обращены против иноверцев, латин, иудеев, магометан, армян, лютеран и язычников. Обличения против латин писаны по поводу "писаний Николая Немчина" о соединении церквей 1. Они имеют обычный догматический характер такого рода сочинений. Обличения против иудеев, вызванные появившимися на русском языке писаниями, не обширны и поверхностны; одно из них, слово против Исаака волхва и чародея и прелестника, есть воззвание к собору духовенства о том, чтобы с жидовствующими еретиками поступать как можно суровее. Максим в этом вопросе совершенно расходится со своим почитателем Вассианом и, вместо снисхождения к еретикам, советует святителям предавать еретиков внешней (то есть мирской) власти на казнь, чтобы соблюсти русскую землю от бешеных псов. Максим подкрепляет свой суровый совет такими же примерами, на какие указывал прежде него Иосиф Волоцкий. Его обличения против лютеран касаются иконопоклонения и почитания Божией Матери и могли в свое время иметь прямое отношение к русской жизни, так как на Руси, мимо всякого непосредственного влияния западного протестантства, являлись мнения, сходные с протестантством, особенно относительно иконопочитания. В обличениях против армян Максим повторяет выражения той злобы, которую уже давно греки старались посеять на Руси к армянам, внушая русским всеми способами отвращение к армянскому народу, а полемика Максима против древнего классического язычества не имеет к Руси прямого отношения и есть плод воспоминаний его об Италии, где Максим видел увлечение язычеством. Максим писал также против астрологии, которая стала понемногу заходить в Русь и совращать умы даже грамотеев. Максим доказывал, что верить, будто человеческая судьба зависит от звезд и будто они имеют влияние на образование таких или других свойств человека, - противно религии, так как этим, с одной стороны, подрывается вера в промысел и всемогущество Божие, с другой, отнимается свободная воля у человека. На основании астрологических вычислений, в Европе образовалось предсказание, что будет новый всемирный потоп. Это ожидание заходило и в тогдашнюю Русь. Максим опровергал его, как основанное на суеверной астрологии, и подтверждал смыслом Божия обещания Ною свои доказательства о невозможности нового потопа.
Важнее всех сочинений этого рода те, в которых Максим имел целью обличать признаки, принадлежавшие исключительно или преимущественно стране, куда бросила его судьба, и здесь-то сочинения Максима Грека заключают драгоценные сведения о нашей духовной жизни и ее пороках, обративших на себя внимание обличителя. На Руси издавна ходило множество так называемых апокрифических сочинений, зашедших к нам с Востока и заключавших в себе разные выдумки, касавшиеся событий Ветхого и Нового Завета; они были любимы читателями, представляя много заманчивого для воображения. Их называли у нас отреченными; церковь запрещала читать их. К ним во времена Максима присоединились апокрифы, заходившие с Запада в появившемся тогда на русском языке сочинении под названием "Люцидария". Максим коснулся немногих из апокрифов, вероятно, попавшихся ему под руку и обративших его особенное внимание по причине своей распространенности. Так Максим обличал сказание, приписываемое Афродитиану о волхвах, поклонявшихся Христу, где благочестивого Максима особенно соблазняло то, что идолы в персидком языческом храме разыгрались при рождении Спасителя; опровергал он сказание об Иуде, будто бы жившем много лет после Христа, и сказание о том, будто бы Адам дал на себя рукописание дьяволу, обязавшись вечно служить и работать ему. Максим также доказывал несправедливость распространенного издавна у нас мнения, будто бы во время воскресения Христова солнце не заходило целые восемь суток. Достойно замечания, что здесь Максим установил приемы критики, которыми следует руководствоваться при оценке подобного рода сочинений; необходимо, по учению Максима, чтобы сочинение было составлено известным церкви писателем, было согласно со священным писанием и само в себе не заключало противоречия. Подвергая суждению разные богословско-космографические бредни, заключающиеся в "Люцидарии", Максим опровергает их несходством со священным писанием и отцами церкви, которые для него были авторитетами в области не только веры, но и естествознания: "Держись крепко Дамаскиновой книги и будешь великий богословец и естествословец". Между благочестивыми, на основании апокрифических сказаний, были толки о том, кому прежде всех была послана с небес грамота. Максим разрешает этот вопрос, говоря, что никогда и никому не было послано такой грамоты, ссылаясь на то, что об этом нигде не упоминается в Св. Писании.
Рядом с апокрифами Максим писал против разных суеверий, замеченных им в русском обществе: так, например, на Руси распространилось верование, будто от погребения утопленных или убитых происходят неурожаи. Бывали случаи, когда выкапывали из земли тела и бросали на поле. Максим убеждает скрывать всех в недрах земли, общей матери, и доказывает, что гнев Божий посылается за грехи, а не за погребение утопленных. Он порицал веру в сновидения, а также в существование добрых и злых дней и часов, веру, истекавшую из астрологии; нападал на разные суеверные приметы, наблюдения птичьего полета, движения глаза, явления облаков, на веру во встречу, в оклик, на разные гадания: на бобах, на ячмене; в особенности вооружался он против ворожбы, допускаемой по случаю судебного поединка (поля), причем осуждал самый этот обычай. "Наши властители и судьи, отринувши праведное Божие повеление, не внимают свидетельству целого города против обидчика, а приказывают оружием рассудиться обидчику с обиженным, и кто у них победит, тот и прав; решают оружием тяжбу: обе стороны выбирают хорошего драчуна полевщика; обидчик находит еще чародея и ворожея, который бы мог пособить его полевщику... О беспримерное беззаконие и неправда! И у неверных мы не слыхали и не видали такого безумного обычая".
Самое большое значение из обличительных сочинений Максима Грека имеют для нас те, которые относятся непосредственно к нравам тогдашнего русского общества. Максим был недоволен духовенством. "Кто может достойно оплакать мрак, постигший род наш! - говорит он. - Нечестивые ходят как скимны рыкающие и удаляют от Бога благочестивых, а наши пастыри бесчувственнее камней; они устроились себе и думают только о том, как бы самим себя спасти... Нет ни одного, кто бы прилежно поучал и вразумлял бесчинных, утешал малодушных, заступался за бессильных, обличал противящихся слову благочестия, запрещал бесстыдным, обращал уклонявшихся от истины и честного образа христианской жизни. Никто по смиренномудрию не откажется от священнического сана, никто и не ищет его по божественной ревности, чтобы исправлять беззаконных и бесчинствующих людей; напротив того, все готовы купить его за большие дары, чтобы прожить в почете, в удовольствии".
Максим оставался всегда иноком и был пропитан отшельническим взглядом на жизнь: "Возлюби, - говорит он, - душа моя, худые одежды, худую пищу, благочестивое бдение, обуздай наглость языка своего, возлюби молчание, проводи бессонные ночи над боговдохновенными книгами... Огорчай плоть свою суровым житьем, гнушайся всего, что услаждает ее... Не забывай, душа, что ты привязана к лютому зверю, который лает на тебя; укрощай его душетлительное устремление постом и крайней нищетою. Убегай вкусных напитков и сладких яств, мягкой постели, долговременного сна. Иноческое житие подобно полю пшеницы, требующему трудолюбия; трезвись и тружайся, если хочешь принести Господу твоему обильный плод, а не терние и не сорную траву". Но при этом отшельническом взгляде Максим требовал от иноков действительно сурового подвига, отречения от мира; и потому во многих своих сочинениях он с жаром нападает на лицемерие русских монахов. Не отделяя себя от всего монашества, он делает своей душе упреки, в которых обличает дурной образ жизни в монастырях: "Убегай губительной праздности, ешь хлеб, приобретенный собственными трудами, а не питайся кровью убогих, среброрезоимством (взыманием процентов)... Не пытайся высасывать мозги из сухих костей, подобно псам и воронам. Тебе велено самой питать убогих, служить другим, а не властвовать над другими. Ты сама всегда веселишься и не помышляешь о бедняках, погибающих с голоду и морозу; ты согреваешься богатыми соболями и питаешь себя всякий день сладкими яствами. Тебе служат рабы и слуги. Ты, противясь божественному закону, посылаешь на человекогубительную войну ратные полки, вооружая их молитвами и благословениями на убийство и пленение людей. Ты страшишь вкусить вина и масла в среду и пяток, повинуясь отеческим уставам, а не боишься грызть человеческое мясо, не боишься языком своим тайно оговаривать и клеветать на людей, показывая им лицемерно образ дружбы. Ты хочешь очистить мылом от грязи руки свои, а не бережешь их от осквернения лихоимством. За какой-нибудь малый клочок земли тащишь соперников к судилищу и просишь рассудить свою тяжбу оружием, когда тебе заповедано отдать последнюю сорочку обижающему тебя! Ни Бога, ни ангелов ты не стыдишься, давши обещание нестяжательного жития. Молитвы твои и черные ризы только тогда благоприятны Богу, когда ты соблюдаешь заповеди Божьи... А ты, треокаянная, напиваясь кровью убогих, приобретая в изобилии все тебе угодное лихвами и всяким неправедным способом, разъезжаешь по городам на породистых конях, с толпой людей, из которых одни следуют за тобой сзади, а другие впереди и криком разгоняют народ. Неужели ты думаешь, что угодишь Христу своими долгими молитвами и черной власяницей, когда в то же время собираешь неправильным лихоимством жидовское богатство, наполняешь свои амбары съестными запасами и дорогими напитками, накопляешь в своих селах высокие стога жита с намерением продать подороже во времена голода?" Вопрос о владении монастырскими имениями, занимавший умы еще прежде Максима, разработан им в сочинении об иноческом жительстве, в форме разговоров между любостяжательным (Филоктимоном) и нестяжательным (Актионом). Здесь Максим привел доказательства как в защиту права монастырей владеть имениями, так и против этого права. Нестяжательный, которого доказательства представляются сильнее доказательств противника, главным образом, напирает на то, что монахи, владея населенными имениями, обременяют крестьян тяжелыми работами, дают деньги в рост и потом расхищают имение должников, продают и доводят до последней нищеты, тогда как иноки, по своему званию, вступая в монастырь, отрекаются от всякого имущества и стяжания. Сочинение Максима имеет почти тот же смысл, как и обличение Вассиана, касающееся того же самого предмета, но написано с меньшею резкостью.
Как ни уважал Максим монашеское житье, если оно было согласно своему идеалу, но порицал тех, которые пренебрегали семейною жизнью, думая, что только в монашеском чине можно получить спасение. В числе сочинений Максима есть одно "Слово", обращенное "к хотящим оставлять жену свою без вины законныя и идти в иноческое житие". Оно замечательно не только потому, что Максим считал возможным угодить Богу и получить спасение в мире с женою и детьми, но и потому, что самому иноческому житию давал высший внутренний смысл. "Если кто из вас, - говорит он, - задумает предаться иноческому житию, то пусть прежде испытает себя в мирском житии: может ли он быть добродетельным и жить праведно со страхом Божиим и истиною; и если может, то, не разлучаясь со своею женою, пусть благодарит Бога и пребывает в исправлении добрых дел. Пусть он знает, что иноческое житие, которого он желает, есть не что иное, как прилежное исполнение евангельских заповедей... Тот, кто исполняет заповеди Христа с желанием угодить Богу, а не людям, тот у Него назовется настоящий инок; христианское благоверие состоит не в изменении одежды, не в воздержании от пищи, а в воздержании от всякой злобы и душетлительных страстей плоти и духа". По отношению к посту Максим Грек произносит такое суждение: "Истинный пост, приятный Богу, состоит в воздержании от душетлительных страстей, а одно воздержание от пищи не только не приносит пользы, но еще более меня осуждает и уподобляет бесам... Не достойно ли слез, что некоторые обрекаются не есть мяса в понедельник ради большого спасения, а на винопитии сидят целый день, и только ищут: где братчина или пирование, упиваются допьяна и бесчинствуют; лучше бы им отрекаться от всякого пития, потому что лишнее винопитие причина всякому злу; от мясоедения ничего такого не бывает. Всякое создание Божие добро, и ничто не отвергается, принимаемое с благодарением.
Самое сильное слово в этом роде написано было Максимом уже после его заточения, по поводу происшедшего в это время пожара в Твери. Тверской епископ Акакий представляется беседующим с самим Христом. "Мы всегда, Господи (говорит епископ), радели о твоей боголепной службе, совершали тебе духовные праздники с прекрасным пением и шумом доброгласных колоколов, украшали иконы твои и Пречистой твоей Матери золотом, серебром и драгоценными камнями, думали благоугодить тебе, а испытали твой гнев; в чем же мы согрешили?" - "Вы (отвечает ему Господь) наипаче прогневали меня, предлагая мне доброгласное пение и шум колоколов, и украшение икон и благоухание мирры... Вы приносите мне все это от неправедной и богомерзкой лихвы, от хищения чужого имущества; ваши дары смешаны со слезами сирот, с кровью убогих. Я истреблю ваши дары огнем или отдам на расхищение скифам, как и сделал с иными. Пусть примером вам послужит внезапная погибель всеславного и всесильного царства Греческого. И там всякий день приносилось мне боголепное пение, со светлошумящими колоколами и благовонной миррой, совершались праздничные торжества, строились предивные храмы с целебоносными мощами апостолов и мучеников, и скрывались в храмах сокровища высокой мудрости и разума; и ничто это не принесло им пользы, потому что они возненавидели убогих, убивали сирот, не любили правого суда, за золото оправдывали обидящего; их священники получали свой сан через подкуп, а не по достоинству. Что мне в том, что вы меня пишете с золотым венцом на голове, когда я среди вас погибаю от голода и холода, тогда как вы сладко насыщаете себя и украшаете разными нарядами? Удовлетвори меня в том, в чем я скуден; я не прошу у тебя золотого венца; посещение и довольное пропитание убогих, сирот и вдовиц - вот мой кованый золотой венец... Не для доброшумных колоколов, песнопений и благоценных мирр сходил я на землю, принял страдание и смерть. Моя вся поднебесная; я исполняю небо и землю всеми благами и благоуханиями; я отверзаю руку свою и насыщаю всякую тварь земную!.. Я оставил вам книгу спасительных заповедей, поучений и наставлений, чтобы вы знали, чем можете угодить мне; вы же украшаете книгу моих слов золотом и серебром, а силу написанных в ней повелений не принимаете и исполнять не хотите, но поступаете противно им. Я не приказал вам скрывать на земле сокровища и прилагать к ним сердца свои, а вы расхищаете, убогих, нещадно, без сострадания, обижаете, убиваете, всяким способом мерзкого лихоимства; сами пируете с богачами, а бедным, стоящим у ваших ворот, изнемогающим от холода и голода, кидаете кусок гнилого хлеба... Я нарек сынами Божиими рачителей мира, а вы, как дикие звери, бросаетесь друг на друга с яростью и враждою! Священники мои, наставники нового Израиля! Вместо того, чтобы быть образцами честного жития, - вы стали наставниками всякого бесчиния, соблазном для верных и неверных, объедаетесь, упиваетесь, друг другу досаждаете; во дни божественных праздников моих, вместо того чтобы вести себя трезво и благочинно, показывать другим пример, вы предаетесь пьянству и бесчинству... Моя вера и божественная слава делается предметом смеха у язычников, видящих ваши нравы и ваше житие, противное моим заповедям" и пр.
Обличения Максима коснулись мирской власти и суда. В одном из своих поучений он говорит: "Страсть иудейского сребролюбия и лихоимания до такой степени овладела судьями и начальниками, посылаемыми от благоверных царей по городам, что они приказывают слугам своим вымышлять разные вины на зажиточных людей, подбрасывают в дома их чужие вещи; или: притащат труп человека и бросят на улице, а потом, как будто отмщая за убитого, начнут истязать не только одну улицу, но всю часть города по поводу этого убийства, и собирают себе деньги таким неправедным и богомерзким способом. Слышан ли когда-нибудь у неверных язычников такой гнусный способ лихоимания? Разжигаемые неистовством несытого сребролюбия, они обижают, лихоимствуют: расхищают имущества вдовиц и сирот, вымышляют всякие обвинения на невинных, не боятся Бога, страшного мстителя обиженных, не срамятся людей, окрест их живущих, ляхов и немцев, которые хоть и латынники по ереси, но управляют подручниками своими с правосудием и человеколюбием". Указать на превосходство латин перед православными в то время было до крайности резкой выходкой. Решившись так смело обличать лиц, посылаемых верховной особой, он